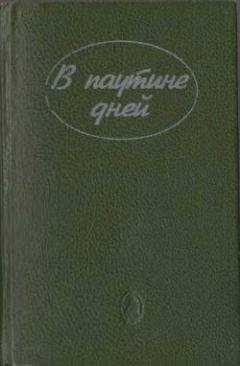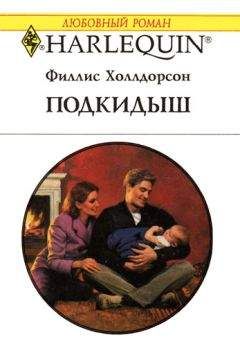Мануэль Монтальбан - Галиндес
– Поглядите на нее, полковник, такая же тощая.
– Бывают рыбки, которые сами плывут в сети.
Ты надеешься, что кто-нибудь из чиновников присоединится к этой компании, но дверь закрылась, теперь – окончательно. Аресес ногой разворачивает к себе стул и, грузно откинувшись, усаживается. Сигара погасла и, достав зажигалку, которая переливается, как его кольцо, он снова разжигает ее и затягивается, смакуя вкус дыма. Но что-то ему не нравится, и тогда Аресес сует сигару другим концом в рот и дует, пока – под общий смех – не появляется густой дымок.
– Чего вы ржете, дураки? Не знаете, что сигара накапливает никотин, и надо дать ему выход, подув в другой ее конец; но только после того, как сигару несколько раз гасили, а потом разжигали снова. Не выбрасывать же ее. Чтобы вы потом подобрали, паразиты? Ну, мы ведем себя, как будто нам делать нечего, а работы у нас непочатый край. Раз вы со своими не договорились, с нами вам совсем несладко придется. Эти ребята не хотят пачкать свои белые ручки – для этого есть наши, потемнее. Ну, каждому свое, но уверяю вас, мы не подкачаем.
– У сеньориты такое лицо, будто она сейчас грохнется в обморок.
– На ней слишком много одежды.
– Какая соблазнительная худышечка!
– Мы вам сейчас воссоздадим ту атмосферу, которая вас так интересовала. Я не помню, как называется ваша работа, но вы мне сказали, что хотите «проникнуться атмосферой». Вы ее получите. Жалко, что я не видел смерти Галиндеса, но когда убивали Мёрфи, я был в первом ряду. Я вам говорил, что он визжал, как свинья на бойне, а ведь какой холеный всегда был! Сейчас молодежь растет быстрее, но Мёрфи и тогда был парень что надо, а так себя вел, что нам всем стало за него стыдно, даже тому, кто двинул ему по башке дубиной, чтобы он перестал визжать, как боров. Ну а потом ему завязали бантик и отвезли на берег моря, неподалеку от муниципальной бойни. Там ему пропороли живот мачете и бросили в море, чтобы акулы сожрали его поскорее. Люди думают, что эти твари в первую очередь набрасываются на руки или ноги, но нет, – больше всего они любят человеческие внутренности. Вам не жарко, сеньорита? Я не знаю, сколько времени протянут ваши прекрасные формы, но на вас слишком много всего надето.
– Прикажете раздеть ее, шеф?
– Да она сама разденется: эти современные девушки умеют приспосабливаться к любым обстоятельствам. Разве не американки придумали лозунг: «Если тебя насилуют, расслабься»? Но я не думаю, что вас тут будут насиловать, как, Ривера?
– Мне не нравятся тощие.
– Но мы из тебя лепешку сделаем, кретинка.
– Кроме того, голый быстрее осознает свое человеческое ничтожество.
В известном смысле, горькое письмо, написанное Галиндесом в канун его последнего нью-йоркского Рождества, было предчувствием того, что он испытал в эту минуту. Ты уверена, что он испытал тот же страх, что испытываешь сейчас ты, и мужество держалось только на мыслях о деле, за которое он боролся. Ты раздеваешься – сама, потому что не хочешь, чтобы тебя раздевали они. Ты смотришь на Аресеса, улыбаясь, – потому что не хочешь, чтобы он видел твои слезы, а когда ты не сможешь сдержать крик, ты постараешься, чтобы он был похож на воинственный клич и не вызывал никакого сочувствия. Но тебе хотелось бы другого конца – тебе хотелось бы, чтобы твоя дрожащая рука нашла руку Хесуса. Ты не осмеливаешься запеть песню, которую пел Хесус, песню о любви к родине и тоске по ней. Но ты тихо начинаешь петь – так тихо, что голос твой никому не слышен, и слова эти, как таинственные письмена, нельзя уничтожить, – песню Лабоа. Ты бы повела Хесуса в лес, где все деревья расписаны сыном Мигелоа, отчего лес неузнаваемо изменился, преображенный рукой человека. «Если бы можно было убежать и обрести где-нибудь мир и покой, я не любил бы так цветы, украшающие твой дом. Я не дал бы горю одолеть меня, а безнадежности – завладеть моей душой, я не кричал бы так. Я не дал бы повода к раздору, не был бы растением без корней, брошенным в холодную землю. Если бы можно было убежать, если бы можно было разорвать цепь, я не был бы беспомощным моряком, у которого нет корабля».
* * *Люди за столиками в ярко освещенной части заведения, весело болтая, уже заканчивают ужинать, а в полумраке, у стойки, собрались те, кто предпочитает выпить рюмку в одиночестве, предаваясь грустному раздумью. Стоит тут и приземистый рыжеватый человек, навалившись почти всей грудью на стойку; как завороженный, смотрит он на мерцающие огни Бруклина, там, на другом берегу Ист-Ривер. Этот человек выпил уже четыре сухих мартини и намерен выпить пятый, но официант упрямо не смотрит в эту сторону, хотя он уже дважды махал ему. Движениями этого парня руководит странная логика, которая приобретается только путем долгой тренировки, причем у каждого официанта свой стиль. Этот старательно избегает пьяной задушевной откровенности, приступов лиризма, вызванных стальным блеском речной глади, плывущей по ней баржей и тем ощущением внутреннего холодка, который возникает от пляшущих на воде отражений небоскребов, от застывшей в металле поэзии Бруклинского моста. «Почему я пишу стихи? – спрашивал сам себя Уоллес Стивенс. И сам же себе отвечал: – Это вытекает из того, как я воспринимаю мир; к тому же иногда я устаю от однообразия собственного воображения и отправляюсь на поиски чего-нибудь другого». Обратите внимание на глагол, который он употребляет: «отправляюсь», «отправляюсь на поиски». Поэзия – путешествие. Официант слушал его рассуждения – хоть и с некоторой улыбкой, – пока он пил первое, второе, третье мартини, но на четвертом потерял к нему интерес. Отчасти и потому, что приземистый человек глубоко задумался, а потом вдруг воскликнул: «Вспомнил! Это из работы Стивенса „Иррациональное начало в поэзии“». На пятом мартини глаза у него стали влажнеть: «Я угощаю. Выпейте за мое здоровье. Мне сегодня шестьдесят лет». – «Я предпочитаю „Кровавую Мэри“. – „Пожалуйста, «Кровавую Мэри“. Официант делает себе коктейль, а приземистый мужчина, перегнувшись через стойку, задерживает его рукой:
– Чем можно заняться в шестьдесят лет?
– Я подумаю, у меня еще много времени впереди.
– Ну, чего-чего, а времени у вас тогда будет достаточно, девать некуда. Когда вам стукнет шестьдесят, у вас всегда будет такое ощущение, словно могильная плита у вас за плечами, а на ней – только имя и фамилия, и даже звание ваше не значится, потому что Женевская конвенция это запрещает. Вы знаете, кто я такой? Чем занимаюсь? Нет, не знаете, и вам на это наплевать. А ведь я мог стать поэтом, мог преподавать в университете. У меня только внешность гиппопотама, а душа на самом деле нежная.
Он несколько раз пробормотал последнюю фразу, пока ему не стало казаться, что она очень музыкальна. Голоса окружающих слились в единую шумовую завесу, голова поплыла от выпитых мартини, и мужчина почувствовал, что устал от этой тоски. Еще одна баржа, теперь в противоположном направлении; как медленно она плывет.
– Завтра я уезжаю в свой домик. Хочу вырубить там половину деревьев и, пока не срублю сотню деревьев, не присяду: я должен доказать самому себе, что еще в состоянии вырубить пол-леса.
Официант ушел к другому концу стойки, а стоящих рядом он не знает. Мужчина поворачивается и находит, что он вполне в состоянии, не шатаясь, дойти до машины. У мужчины – повлажневшие глаза, и от этого все расплывается – светофоры, мчащиеся навстречу машины, силуэты небоскребов, Бруклинский мост. И неожиданно, казалось бы, ниоткуда, как это обычно и бывает в Манхэттене, начинает идти дождь, на радость тем, кто торгует зонтами, – недолговечная радость: только на вечер, а то и на несколько часов. «Дождь идет над моей судьбой; плачет дождь, плачет дождь над тайной жизнью моей…» Но он тут же забыл о стихах, сосредоточившись на том, как бы поскорее добраться до дома и чего-нибудь поесть, чтобы разогнать хмель. Однако, войдя в квартиру, он не направляется сразу в кухню, а после некоторого колебания идет к большим книжным полкам, сплошь уставленным книгами. Он сразу находит нужную книгу, и когда открывает ее, оттуда падают несколько пожелтевших листков, которые мужчина внимательно читает, еще не понимая, что это такое. Он кладет на стол «Иррациональное начало в поэзии» Стивенса, тоненькую книжечку, к которой уже утратил интерес, и начинает читать то, что написано на листках, напечатанных, как он сразу определяет, на старой пишущей машинке, которой он пользовался в свои первые университетские годы. «Мистер Берримэн! Ваш поэтический дар был оценен слишком поздно, и именно наше поколение студентов потребовало, чтобы имя Ваше стояло в одном ряду с именами Роберта Лоуэлла или Делмора Стюарта. Изменился ли характер Вашего творчества после того, как к Вам пришла известность? Как Вы оцениваете слова Сейринга, сказавшего, что Вы если не лучший из поэтов современной Америки, то, безусловно, занимаете в поэзии второе место после Лоуэлла? С вами произошло то же, что с Элиотом, Фростом, Оденом, которых оценили по достоинству сначала в Англии, и только потом – на их родине. Как это объяснить? Считаете ли вы себя исповедальным поэтом, как Сильвия Плат или Лоуэлл? Как вы относитесь к этому ярлыку? Исповедальны ли Ваши сонеты? Вы как-то сказали, что вы – не писатель, а только надели эту маску, что на самом деле вы – академический эрудит. Что Вы хотели этим сказать?» Берримэн так никогда и не получил эти вопросы юного студента, восхищавшегося его творчеством, творчеством поэта, недооцененного в сороковые годы, когда ему было тридцать четыре – тридцать пять лет. Где эти блестящие заметки Берримэна о «Любовной песне Дж. Альфреда Пруфрока»? Назывались «Как пациент под наркозом», и Берримэн говорил, что это стихотворение Элиота положило начало современной англоязычной поэзии. Он хлопает себя по лбу, довольный самим собой – тем, давнишним. Но тут голод дает о себе знать. Мужчина отправляется в кухню и достает из холодильника нарезанный хлеб, масло, огурцы, тюбик лососевого паштета. Потом он нарезает дольками огурец и кладет их между кусками хлеба, предварительно намазанными маслом и паштетом. Жуя этот огромный бутерброд, он готовит второй, точно такой же. Теперь он уже не торопится и усаживается в удобное глубокое кресло напротив телевизора. Пивная пена, вырвавшись из банки, стекает на ковер. Доев, он тянется к своим старым заметкам и к книге Стивенса, но теперь ему хочется почитать Берримэна. Куда задевалась его книга?