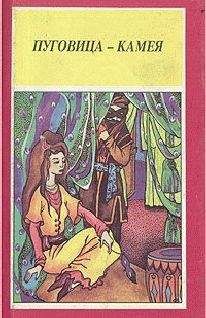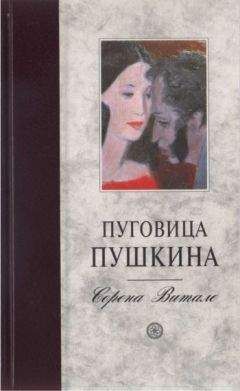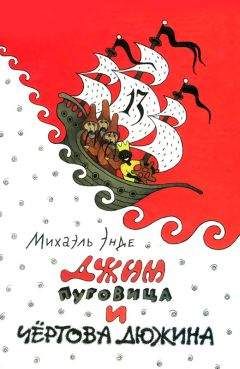Юлиан Семенов - Экспансия – I
В конце марта сорок пятого года Буэнос-Айрес ответил Вашингтону, что Аргентина присоединяется к решениям конференции и в «целях сотрудничества для отражения актов агрессии со стороны любого государства, направленных против любого американского государства», объявляет состояние войны с Японской империей; объявляется война и Германии — но не как врагу, не как рейху, не как державе зла и ужаса, но лишь как союзнице Японии, которая была основным противником Соединенных Штатов на океанах.
Такого рода маневр позволил Вашингтону протащить Аргентину в Организацию Объединенных Наций, что было вызовом тем, кто должен был заседать в одном зале с посланцами тех, кто открыто заявлял в ту пору о своей симпатии к Оси; это помогло государственному департаменту содействовать Буэнос-Айресу и в установлении дипломатических отношений с теми, с кем он сочтет нужным эти отношения установить, учитывая, что сорок шестой год был годом выборов, объявленных в той стране, большинство населения которой открыто стояло за дружбу со всеми державами, внесшими решающий вклад в антифашистскую борьбу.
Таким образом, Штирлиц понял, что весной сорок пятого на поверхности политического моря виднелись лишь небольшие рифы, но вулканическая горная гряда, составленная из гигантских пиков, была сокрыта тишиною необозримого молчания.
Он обозначил для себя проблему Чапультепека, как одну из наиболее интересных, особенно в связи с тем еще, что там не был — под нажимом Соединенных Штатов — обсужден вопрос об отношениях латиноамериканских республик с профашистской Испанией, и перешел к исследованию нового блока вопросов, который он начал с изучения стенограммы допросов главных нацистских преступников в Нюрнберге, пытаясь найти в них — понятно, между строк — то, что могло представлять для него интерес, отнюдь не сиюминутный.
Он задержался на допросе советским представителем Руденко фельдмаршала Кейтеля, особенно на той его части, где речь шла об обращении с военнопленными.
«Руденко. — В докладе адмирала Канариса от пятнадцатого сентября сорок первого года он указывал на массовые убийства советских военнопленных и говорил о необходимости решительного устранения этого произвола. Вы были согласны с теми положениями, которые Канарис выдвинул в своем докладе на ваше имя?
Кейтель. — По получении этого письма я немедленно доложил о нем фюреру, в особенности в связи с двумя нотами народного комиссара по иностранным делам от начала июля, и просил принять решение по этому вопросу… В общем-то я разделял сомнения Канариса…
Руденко. — Разделяли? Очень хорошо. Я предъявлю вам подлинник доклада Канариса, на котором есть ваша резолюция…
Кейтель. — Я знаю этот документ с пометками на полях.
Руденко. — Следите за резолюцией… Вот документ Канариса, который, как вы только что сказали, вы считали правильным… Ваша резолюция: «Эти положения соответствуют представлениям солдата о рыцарском способе ведения войны. Речь идет об уничтожении целого мировоззрения, поэтому я одобряю эти мероприятия и покрываю их. Кейтель». Ваша подпись?
Кейтель. — Да, я написал это в качестве решения после доклада фюреру.
Руденко. — Но там не написано, что это Гитлер так сказал. Там написано: «Я покрываю. Кейтель». Я спрашиваю вас, подсудимый Кейтель, именуемый фельдмаршалом, неоднократно называвший себя здесь «солдатом», вы своей кровавой резолюцией подтвердили и санкционировали убийства безоружных солдат, попавших к вам в плен? Это правильно?
Кейтель. — Я беру на себя эту ответственность…»
…Особенно страшным был допрос американским прокурором Эйменом Кальтенбруннера; Штирлиц даже зажмурился, чтобы отогнать от себя назойливое видение — длинное, несколько дегенеративное лицо начальника РСХА, «доктора юриспруденции и верного палладина Гиммлера».
«Эймен. — Подсудимый, вы слышали на этом Суде показания, связанные с «особым обращением»? Что оно означало?
Кальтенбруннер. — Следует предположить, что это означало смертный приговор, который не выносился судом, а определялся приказом Гиммлера. Лично я понимаю это таким образом.»
(Штирлиц подумал, что если когда-либо какой-либо художник решит создать фрески о людских достоинствах или пороках, то «ложь» и «ужас» он вполне может писать с фотографии Кальтенбруннера.)
«Эймен. — Подсудимый Кейтель показал, что такого рода выражение было общеизвестно. Не было ли вам известно выражение «особое обращение»? Ответьте, пожалуйста, «да» или «нет».
Кальтенбруннер. — Да. Был приказ Гиммлера — могу также указать на приказ Гитлера — казнить без судебного разбирательства.
Эймен. — Обсуждали ли вы когда-либо с группенфюрером Мюллером ходатайства о применении «особого обращения» к некоторым людям? Ответьте, пожалуйста, «да» или «нет».
Кальтенбруннер. — Нет.
Эймен. — Были вы знакомы с Джозефом Шпасилем?
Кальтенбруннер. — Я его не знал.
Эймен. — Я передаю вам его показания.
Кальтенбруннер. — Так это же Йозеф Шпациль! Его я знал.
Эймен. — Может быть, вы взглянете на абзац, начинающийся со слов: «в отношении „особого обращения“… Нашли это место?
Кальтенбруннер. — Чтобы охватить содержание документа, я должен прочитать его полностью.
Эймен. — Но, подсудимый, у вашего защитника есть копия этого документа!
Кальтенбруннер. — Мне этого недостаточно.
Эймен. — Хорошо, тогда читайте с середины страницы: «во время совещаний начальников секторов группенфюрер Мюллер часто советовался с Кальтенбруннером о том, следует ли применять по тому или иному делу „особое обращение“. Вот пример такого разговора: „Мюллер: Скажите, пожалуйста, по делу „А“ следует применить „особое обращение“? Кальтенбруннер отвечал „да“ или предлагал поставить вопрос на решение рейхсфюреру. Когда проходила подобная беседа, упоминались только инициалы, так что лица, присутствовавшие на совещаниях, не знали, о ком идет речь“. Является ли это письменное показание правдой или ложью, подсудимый?
Кальтенбруннер. — Содержание этого документа нельзя назвать правильным в вашем толковании, господин обвинитель… Возможно, что Мюллер говорил со мной об этом, когда мы вместе обедали, поскольку меня это интересовало с точки зрения внешней политики и информации…
Эймен. — Вам знакомо имя Цирайса?
Кальтенбруннер. — Да.
Эймен. — Он был комендантом концентрационного лагеря в Маутхаузене?
Кальтенбруннер. — Да.
Эймен. — Я зачитаю отрывок из предсмертной исповеди знакомого вам Цирайса… «Ранним летом сорок третьего года лагерь посетил обергруппенфюрер СС доктор Кальтенбруннер… Ему были показаны три метода умерщвления: выстрелом в затылок, через повешение и умерщвление газом. Среди предназначенных к экзекуции были и женщины; им отрезали волосы и убили выстрелом в затылок. После казни доктор Кальтенбруннер отправился в крематорий, а позднее — в каменоломню». Это правильно?
Кальтенбруннер. — Это ложь.
Эймен. — Хорошо… Перед вами документ… Об уничтожении на месте англо-американских летчиков… Подписано: «Доктор Кальтенбруннер». Отрицаете ли вы тот факт, что имеете отношение к этому приказу?
Кальтенбруннер. — Я никогда не получал этого приказа.
Эймен. — Вы отрицаете, что здесь стоит ваша подпись?
Кальтенбруннер. — Господин обвинитель…
Эймен. — Ответьте на мой вопрос: вы отрицаете вашу подпись?
Кальтенбруннер. — Я не получал этих документов. Конечно, я частично виноват, что не обращал внимания, не даются ли от моего имени такие приказы…
Председатель трибунала. — Я ничего не понимаю! Либо вы говорите, что это не ваша подпись на документе, либо что подписали его, не глядя на содержание. Что именно вы утверждаете?
Кальтенбруннер. — Господа! Я никогда не получал этого документа! Я не мог подписать его, потому что это противоречило моим убеждениям!
Председатель трибунала. — Я не спрашиваю о ваших убеждениях. Я хочу получить ответ: вы подписывали его или нет?
Кальтенбруннер. — Нет.
Председатель трибунала. — Но ведь там стоит ваша подпись!
Кальтенбруннер. — Я не убежден, что это моя подпись.
Председатель трибунала. — Полковник Смирнов, по каким пунктам вы бы хотели подвергнуть свидетеля перекрестному допросу?
Смирнов. — Подсудимый отрицал свое участие в уничтожении евреев в Варшавском гетто… Он утверждал, что полицайфюрер Польши Крюгер якобы подчинялся непосредственно Гиммлеру и никакого отношения к Кальтенбруннеру не имел…