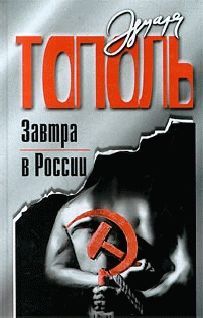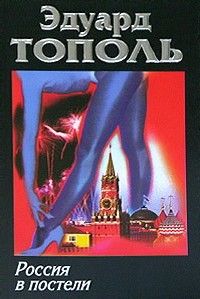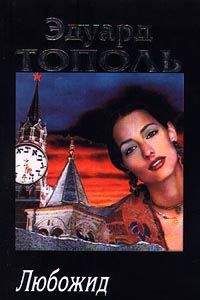Эдуард Тополь - Завтра в России
Черт возьми, почему нет подъема, неужели сегодня воскресенье, пытался вспомнить сквозь дрему Майкл, ощущая некоторое шевеление старика Горного за своей спиной, но пытаясь вернуться в свой исчезающий сон. Там, в этом мираже сна, все еще жила, не истаивала двадцатипятилетняя брюссельская красотка, стриженная коротким бобриком, с упругой грудью, тонкой талией, огромными темными глазами, мягкими, теплыми губами и влажно-сладостным языком, которым она…
Ну что он там возится, этот факин Горный!
Господи, как вытягивает, как сладостно вытягивает жилы эта брюссельская красотка своим нежно-старательным языком! Только бы не подъем, только бы она успела закончить эту прекрасную работу! Этот Горный кашляет прямо в ухо, сволочь! С того самого пикника на борту теплохода «Михаил Кутузов», где Горячев праздновал свой выход из больницы, судьба, или, точнее, начальство ГУЛАГа, не разлучает Майкла и Горного. Поначалу, сразу после стриже-митрохинского переворота, всех гостей этого пикника отправили в Казахстан, в лагерь под Джезказганом. Вертухаи называли этот лагерь «элиткой» – сюда действительно свезли чуть не всю прогорячевскую элиту: журналистов, писателей, режиссеров, поэтов и экономистов-реформаторов. Их хотели использовать на вторичной разработке отвалов медных джезказганских рудников. Но буквально через две недели начальники всех карьеров стали отказываться от этой «рабочей силы», неспособной держать в руках ни кирку, ни лопату. А все лагерные медпункты оказались переполненными больными, получившими травмы из-за неумелого пользования ломом, отбойными молотками и прочим инструментом. А бараки стали полны людьми с тяжелыми психическими расстройствами. За первые два месяца в «элитке» сошли с ума или покончили с собой 309 человек, в том числе бывший секретарь ЦК по идеологии Борис Кольцов и бывший знаменитый драматург Вадим Юртов. Лишь после этого «элитку» расформировали, а «элитных» зеков разбросали по всем четырнадцати тысячам лагерей ГУЛАГа. В «здоровых лагерных коллективах» бывшая горячевская элита быстро рассосалась, приспособилась, заняла места технарей, бухгалтеров, фельдшеров, кладовщиков и даже пользовалась некоторым покровительством среди зеков-уголовников за то, что все-таки «пытались же они с Горячевым изменить эту сучью советскую систему!». Но в какой бы лагерь ни переводили Майкла Доввея, за ним неизменно прибывал и Зиновий Горный. Стучал он на Майкла, что ли?..
Все-таки брюссельская брюнетка сделала это! Все-таки она поглотила всю эту изламывающую ноги истому! Давай, милая, давай еще, ну еще немножко! А то сейчас заорут «подъем». Даже если там, в Брюссельском аэропорту, ты была двойной агенткой и продала меня КГБ, я прошу тебя, я прошу тебя, только, пожалуйста, еще! вот так! вот так! воо-о-от…
Господи, как теперь хорошо, покойно, мокро… Но почему нет подъема? Теперь они могут кричать «подъем», черт с ними, все-таки сегодня большой день – они не прервали эту брюнетку грохотом рельса, как это бывает во время все более и более редких предрассветных эротических видений. Удивительно, что за все время заключения Майклу ни разу не снились женщины, которых он действительно имел в своей прошлой, долагерной жизни. А снились лишь те, с кем он не был в постели, но которых заметил, засек, удержал в памяти его молодой мужской интерес. Черт возьми, который час?!
Майкл с трудом расклеил веки. По всему телу разливалась пустота и слабость, даже руку с часами трудно поднести к глазам. Не может быть! 6.28? Двадцать восемь минут назад должен был быть подъем, а никто не шевелится! Но ведь сегодня не воскресенье, вот, на часах – «wen», среда! С ума посходили?
Майкл рывком сел на нарах, очумело глянул по сторонам. Зеки спали. Лишние полчаса сна придали их лицам блаженное выражение, словно каждому из них снилась сейчас та же брюссельская красотка. Даже лысый старик Горный, открыв рот, дышал во сне глубоко и часто. Сквозь высокое зарешеченное окно был виден в черном небе желто-красный диск луны, который зимой во время трехмесячной полярной ночи торчит в небе круглосуточно, не исчезая. Но не этот лунный диск поразил Майкла. А то, что на сторожевой вышке не светит прожектор и не шарит лучом по зоне, слепя глаза. А поскольку прожектор, которым обычно баловались на вышках эти чучмеки-часовые, был выключен, то торчащая над колючкой забора вышка отлично читалась под лунным светом. И эта вышка была… ПУСТА! Майкл зажмурил глаза, открыл их снова, потряс головой – нет, он не чокнулся после этой поллюции, он в своем уме, и все-таки вышка – пуста!
Не отводя глаз от окна, Майкл локтем толкнул Коровина в спину.
– Х-нн-у… – вздохнул тот.
Майкл откинул к лицу Коровина свою руку с часами. Часы были в бараке только у него и у Коровина – у Коровина как у старосты барака, а у Майкла как у врача, чтобы он мог считать пульс у больных. Посмотрев на часы, Коровин проследил за взглядом Майкла, который все так же зачарованно смотрел сквозь окно на продуваемую поземкой пустую сторожевую вышку. Увидев эту пустоту на вышке, Коровин стал медленно, странно-заторможенным движением подниматься – даже без участия рук, одной спиной. Ему было 35, среднего роста, живой, жилистый, нервный, подвижный, с вызывающе зелеными глазами. Коровин досиживал последний год из своего пятнадцатилетнего срока за убийство милиционера, и за все пятнадцать лет отсидки он никогда не видел эту вышку пустой и не слышал, чтобы охрана проспала подъем. Он сел на нарах, затем каким-то неслышным кошачьим нырком спрыгнул на пол и, как лунатик, не отводя взгляда от окна, пошел к двери. Откинув одеяло, Майкл спрыгнул тоже и вместе с Коровиным осторожно вышел из барака.
То, что они увидели, заставило их забыть, что они стоят босые и полуголые на тридцатиградусном морозе в обжигающем ноги снегу.
Все двенадцать сторожевых вышек были пусты. Лагерные ворота были открыты настежь, в пустой проходной гуляли ветер и снежная пыль. Нигде не было видно ни одного вертухая, не было слышно ни одной сторожевой собаки.
Испуганно переглянувшись, Коровин и Майкл босиком рванулись к воротам лагеря, но, не добежав до них шагов двадцать, притормозили. Боясь подвоха и неожиданной автоматной очереди, оба настороженно двинулись шагом к зияющему и манящему своей пустотой провалу распахнутых лагерных ворот.
Но все было пусто, только на снегу были четко видны рубчатые следы от колес лагерных грузовиков, которые обычно возят зеков из лагеря в рабочую зону. Теперь и грузовиков нигде не было, только их следы…
Коровин и Майкл осторожно приблизились к воротам… пересекли заветную запретную черту… вышли из лагеря…
Тихо, пусто. Вдали, в километре, среди бело-синих тундровых торос, видны два темных кирпичных барака – казармы охраны. Но и в этих казармах – ни огонька, ни звука, ни шума машин.
Ничего не понимая, Коровин и Майкл вернулись в лагерь и, впервые почувствовав пронизывающий ветер и обжигающий холод снега, побежали в барак-столовую. Только теперь они обратили внимание на то, что даже над трубой лагерной кухни нет дыма.
Тем временем изо всех бараков стали выглядывать осторожные, заспанные, недоумевающие лица зеков – и «мужики», и «политики», и «блатные» – уголовники.
Увидев, что Коровин и Майкл бегут из пустых ворот в столовую, зеки побежали туда же, на ходу озираясь на пустые сторожевые вышки…
В столовой, на кухне, огромная кухонная печь была едва теплой, а угли на колосниках были покрыты серым пеплом. Значит, печь перестали топить часа три назад. Но самое главное и самое поразительное, что в котлах было совершенно пусто и так же пусто было в кладовой при кухне – ни хлеба, ни мешков с картошкой, ни крупы-овсянки, ни гороха, ни даже – соли! Ни-че-го! Чисто! Вся лагерная охрана смылась, исчезла ночью из лагеря, прихватив с собой все продукты, даже соль и картошку! Так вот для чего вчера на ужин давали почти двойную порцию каши – чтобы зеки крепче спали на сытый желудок. Но почему бежала охрана? Куда? Неужели где-нибудь рядом случился новый Чернобыль, и охранники смылись, бросив зеков умирать от радиации? Может быть, поэтому вот уже неделю в зоне не было газет – даже «Правды»…
Лишь через час, когда огромная толпа зеков преодолела снежное поле, отделяющее лагерь от опустевших казарм охраны, они нашли в солдатском «Красном уголке» большую старую деревянную тумбу – радиолу «Родина» выпуска 1960 года. И здесь, среди плакатов «Крепи оборону Отчизны!», «Смерть сионистам и их агентам!», «Дадим Родине сибирскую нефть!» и портретов Стрижа, Митрохина, Вязова и Зотова, зеки лагеря ОР/Щ 421-С впервые услышали по радио воззвание восставших Урала.
«…Граждане советской империи! То, чего больше всего страшились кремлевские вожди в течение всех десятилетий их правления, свершилось! Первый Декрет Комитета народного восстания объявил немедленную демобилизацию всех солдат Советской Армии! Солдаты и офицеры! Охранники лагерей кремлевского ГУЛАГа! Все, кто еще не решился бросить свои казармы! На основании этого Декрета и от имени восставшего русского народа мы гарантируем вам беспрепятственный проезд домой через все зоны, освобожденные нами от власти КПСС!..»