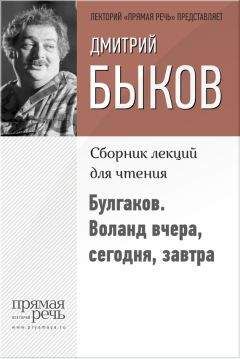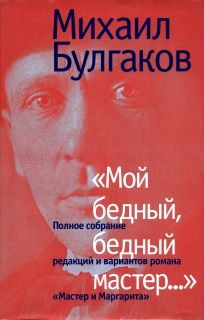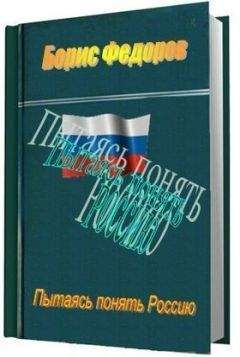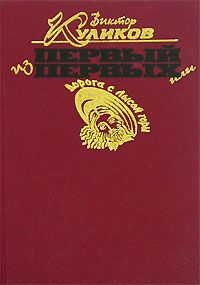Жорж Сименон - Президент
В первый же день он услышал, как она громко спросила Габриэлу:
— В котором часу обедает старик?
«Старик» — никем другим он для нее никогда не будет… Мари туго затягивалась в платье, из которого выпирали ее большие груди, и раз в неделю, в выходной день, мазалась, как девка из публичного дома. Как-то вечером Президент увидел ее из окна: держась обеими руками за ствол дерева и подняв юбки до пояса, она благодушно предалась земным утехам в компании одного из полицейских агентов. Должно быть, ее расположением пользовался не он один. В жарко натопленных комнатах Эберга от нее исходил крепкий запах здорового женского тела.
— Правильно ли вы делаете, господин Президент, что держите у себя такую девушку?
На это он ответил Габриэле не без некоторой грусти:
— А почему бы нет?
Разве не случалось ему в прежние дни заставить ту же Габриэлу в интимной позе с каким-нибудь курьером или рассыльным, а как-то раз даже в объятиях полицейского?
— Не понимаю вас. Вы все ей прощаете. Ей одной в этом доме все с рук сходит.
Может быть, так оно и было, но лишь потому, что он не ожидал от Мари ни привязанности, ни преданности и требовал только, чтобы она исполняла ту работу, для которой он ее нанял. А может быть, и потому, что ей было всего восемнадцать лет и она была самой обыкновенной, здоровой, выносливой девушкой, но, главное, ведь именно ее жизнь ему было дано наблюдать в последний раз…
Она была представительницей неизвестного ему поколения, для которого он был и останется «стариком» и только.
На обед ему подавали неизменно одно и то же, строго по предписанию профессора Фюмэ, и это до сих пор повергало Мари в изумление: яйцо, сваренное в мешочек, на ломтике хлеба, поджаренного без масла, стакан молока, кусок нежирного сыра и фрукты.
Такая диета давно перестала быть для него лишением. Он даже испытывал удивление, если не отвращение, когда видел, как умные люди, ежедневно занятые серьезными проблемами, но придающие еде слишком большое значение, иной раз, находясь в обществе красивых женщин, делали из обсуждения очередного меню излюбленный предмет беседы.
Однажды, гуляя по улицам Руана в сопровождении Эмиля, он остановился как вкопанный перед витриной великолепного гастрономического магазина и долго рассматривал всевозможные деликатесы: жареных цыплят, фазана с хвостом из ярких перьев, покоящегося в желе молодого барашка на подстилке из нежной изумрудной зелени.
— Что ты об этом думаешь, Эмиль?
— Этот магазин считается лучшим в Руане.
Но он говорил скорее с самим собой, нежели с Эмилем:
— Из всех живых существ только человек испытывает потребность украшать трупы своих жертв для возбуждения аппетита. Посмотри-ка на эти круглые ломтики трюфелей, образующих симметричные узоры под кожей пулярок, на этого аппетитного фазана, которому так искусно приделали клюв и хвост…
Двадцать пять лет тому назад он выкурил свою последнюю сигарету, лишь изредка ему позволяли выпить бокал шампанского.
Он не восставал против этого, не ожесточался, не раздражался. Если он слушался предписаний докторов, то не потому, что боялся умереть, ибо смерть давно его не страшила. Он жил в постоянной близости от смерти, это, конечно, не могло его радовать, но он безропотно покорялся неизбежному.
Если только за последний год Эвелина не умерла, значит, он ошибся, когда подумал, что Ксавье Малат и он — последние из сверстников, которые еще оставались в живых. Эвелина была полной противоположностью Ксавье Малату. Президент хранил о ней довольно неясное воспоминание, несмотря на то, что двенадцатилетним мальчиком был в нее влюблен.
Ее отец был жестянщик на улице Сен-Луи, его мастерская помещалась почти напротив школы. Эвелина на два-три года старше Президента, и теперь ей было около восьмидесяти пяти лет.
Говорил ли он с ней когда-нибудь? Возможно. Но, конечно, раза два-три, не более. Он не был уверен, что не путает ее с сестрой или с другими девочками своего квартала. Зато он отчетливо помнил, какая она была: рыженькая, худая и высокая, две длинные косы болтались у нее за спиной, и она носила передник в мелкую красную клетку.
Она дождалась, пока он стал не только министром, но и председателем Совета министров, и лишь тогда решилась написать ему. Это было как раз накануне чрезвычайной важной международной конференции, на которой — как принято считать во время всех подобных конференций — решалась судьба Франции. Он и сам так считал в те дни.
Эвелина ничего у него не просила, она послала ему маленький, освященный в Лурде образок с запиской:
«Молю Бога об успехе Вашей миссии, этот образок поможет Вам спасти родину. Девочка с улицы Сан-Луи — Эвелина Аршамбо».
Она, очевидно, не вышла замуж, так как на фирменном бланке мастерских жестяных изделий по-прежнему стояла фамилия Аршамбо. В ту пору, когда она прислала ему это письмо, ей было далеко за пятьдесят, а адрес на конверте говорил о том, что она живет все на той же улице и в том же доме.
Вся ее жизнь протекла там. Иногда перед его мысленным взором возникала маленькая старушка, вся в черном: пробираясь вдоль стен, она идет к ранней мессе хмурым сереньким утром. После того, как Эвелина прислала ему образок, она взяла за правило ежегодно поздравлять его с днем рождения и обязательно посылала в конверте то ладанку, то образок, то крестик.
Из сведений, полученных через префектуру, он убедился, что она ни в чем не нуждается, и, в свою очередь, послал ей фотографию с подписью.
На застекленной двери, которая вела из столовой в кухню, висела красная клетчатая занавеска, как в деревенских тавернах. Он различал за ней мелькавшую тень Габриэлы. Мадам Бланш уже ушла, готовить Президента ко сну лежало на обязанности Эмиля. В дом на окраине деревни, где мадам Бланш снимала себе комнату, провели телефон. Она обедала и ужинала в старой таверне Биньон. Теперь таверну называли «Отель Биньон», там жили полицейские агенты.
Он услышал голос Эмиля, потом увидел через занавеску его силуэт. Эмиль вошел со двора в кухню и громко воскликнул:
— Все в порядке! Заработало.
— Что заработало? — проворчала Габриэла.
— Радио.
Но радио не интересовало старую кухарку, она жарила над очагом селедку для прислуги, и Эмиль грузно опустился на скамью и налил себе стакан сидра.
Президент с пяти часов не разрешал себе думать о Шаламоне, о котором шла речь в передаче из Парижа, и телефонный звонок был для него спасением, так как резко изменил ход его мыслей. Кстати, он теперь умел безо всяких усилий направлять свои мысли по желаемому руслу и уже не уклоняться от него.
Думать о Филиппе Шаламоне было рано; пока что передавали только непроверенные слухи, и даже если президент республики предложит ему формировать кабинет, не было никаких оснований предполагать, что Шаламон на это согласится.
Мари, стоя над ним, рассеянно наблюдала, как он ест. Она никак не могла научиться вести себя, как подобает приличной горничной. Без сомнения, в один прекрасный день она займет свое настоящее место — станет официанткой в каком-нибудь портовом кабачке в Фекане или Гавре.
— Господин Президент выпьет липового чаю?
— Я всегда пью липовый чай.
Он удалялся, сгорбленный, не знал, что делать с руками: по мере того, как тело его оседало, они становились чересчур длинными. Иногда он говорил о самом себе:
— Если человек действительно происходит от обезьяны, я возвращаюсь к своим предкам — становлюсь все более и более похожим на гориллу.
Эмиль поставил на стол приемник — провод шел через окно к приемнику в автомобиле. Когда наступит время передачи последних известий, шоферу достаточно будет повернуть ручку приемника. Это придумал Эмиль в первый же год их жизни в Эберге. В такую же бурную ночь, как сегодня, свет вдруг погас как раз во время небывало яростных дебатов во Дворце Объединенных Наций.
Разгневанный Президент ходил из угла в угол по кабинету, освещенному, как и сегодня, керосиновой лампой, с той только разницей, что тогда на ней не было абажура, и вдруг Эмиль постучал в дверь.
— Если господин Президент разрешит, я хочу внести предложение. Подумал ли господин Президент о приемнике в нашей машине?
В ту же ночь он, закутанный в плед из меха дикой кошки, подарок канадцев, устроился в «роллс-ройсе» и просидел в нем при тусклом свете радиолампочки до полуночной передачи.
С тех пор Эмиль, охотно выполнявший разные мелкие работы по дому, усовершенствовал свое изобретение, купил второй приемник и подключал его к приемнику в автомобиле.
Там, в Париже, не было никаких аварий и, конечно, они не подозревали, что в Нормандии ураган вырывал с корнем деревья, валил на землю телеграфные столбы, срывал с крыш печные трубы. Журналисты и фотографы дежурили по дворе Елисейского дворца. Шел дождь. В кулуарах палаты и в буфете у окон толпились группы возбужденных депутатов.