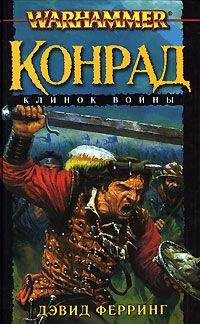Олег Битов - "Кинофестиваль" длиною в год. Отчет о затянувшейся командировке
— Делать вам больше нечего, — буркнул я.
Если англо-француз хотел меня поразить, ему это не удалось. Я был настолько подавлен неудачей, в душе сгущались такие лиловые сумерки, что каплей мрака больше, каплей меньше — не составляло разницы.
— Я не знаю, почему вы представляете собой такую ценность, — продолжал он. — Не знаю, при чем тут дядя Сэм. Но могу догадаться, что дело нешуточное. И могу дать совет: торгуйтесь. Не тратьте себя на бесполезные выходки, а торгуйтесь. Если складывается — редко, но бывает, — что благополучие фирмы зависит от одного человека, этот человек может выторговать себе все что угодно. Какая у вас машина? «Тойота»? Просите спортивный «мерседес» — дадут. Просите виллу, личный самолет, отдых на Таити. Сейчас просите, не откладывая, — как только надобность в вас минует, а это неизбежно, вы не выпросите у них и сантима…
— Не люблю просить, — сказал я, просто чтобы что-нибудь сказать.
Он взглянул на меня с ироническим интересом.
— И я не люблю, и никто не любит. Но все просят, хотя мало кто получает. А вы можете получить. И пожить в свое удовольствие…
— А дальше? Вы знаете, что дальше?
— Нет, не знаю. И знать не хочу, — отстранился он. — И не вздумайте посвящать меня в то, что меня не касается. Вы хотели посидеть в «Клозери де лила» — мы пришли…
«Посидеть», как выяснилось, было негде. Кое-как, и то не вдруг, удалось присесть. Не за угловой, это полностью исключалось, а за столик через один от углового, втиснувшись между каким-то волосатиком и упомянутой выше дамой в шортах и перстнях. Англо-француз, не дожидаясь официанта, протолкался к стойке, принес по методу самообслуживания две кружки пива, якобы того самого, какое предпочитал Хемингуэй. Пиво показалось водянистым, свет в кафе — слишком резким, и вообще весь этот содом был так далек от того, что описывалось и ожидалось…
Лиловые сумерки за окнами, по контрасту с яркими лампами в кафе, сгустились до черноты. Лиловые сумерки в душе тоже. Я просчитался. Я опять не видел выхода, никакого выхода. Тупик.
В Лондоне такой же трагический вечер мог бы привести, чуть не привел, к самоубийству. К малодушно непоправимому решению, тусклому и бесцельному. По счастью, Париж — не Лондон.
Не засиделись мы в «Клозери». На прощание я все-таки подобрался к угловому столику и коснулся его вскользь рукой. И через час, к собственному своему удивлению, обнаружил, что только это движение и было осмысленным, а чувство безысходности приходит и уходит. А этот Роберт — шестерка, шут гороховый. А раздражение от пустопорожнего туристского ажиотажа — и вовсе вздор, ерунда, помарка на празднике.
Праздник — неожиданное в моем положении слово. Оно всплыло из подсознания в тот же вечер, лишь чуть-чуть припоздало. Праздником назвал Хемингуэй неунывающий город Париж. И как же это я забыл? Как позволил себе забыть?
Лиловость парижского предвечерья никуда не делась, она притаилась в улочках и двориках Латинского квартала, в листве каштанов, под коньками крыш. Она осталась оттенком, настроением — импрессионизм мог и должен был родиться только в Париже, — и это настроение не было траурным, грустинка в нем ощущалась, но и отзвук далекой музыки, легкий смех, а еще обещание, что такой же вечер будет завтра, и послезавтра, и через год. Прав был Генрих Наваррский: Париж стоит мессы. Хемингуэй тоже был прав. И тем более прав был Маяковский:
Я хотел бы
жить
и умереть в Париже,
Если б не было
такой земли —
Москва.
Поскольку «кинофестивалю» скоро конец, пора объясниться. Думаю, вы давно обратили внимание на высокое насыщение едва ли не каждой главы литературными параллелями, сопоставлениями и прямыми цитатами. Кому-то это понравилось — надеюсь, не все цитаты затасканы, — а кого-то, возможно, и покоробило. Пожалуй, я и сам предпочел бы заимствовать поменьше, цитировать пореже, да не могу: параллели эти не надуманы после, они принимали в «фестивале» невидимое, но важное участие. Без них я не продержался бы. В магнитофонном дневнике, о котором я рассказывал в предыдущей главе, их не меньше, а больше.
Так и должно было быть, если я хотел выиграть и вернуться. Пока я тщился «воевать» заемными приемами, подсмотренными в посредственных кинолентах, у меня ничего не выходило и выйти не могло. Но когда я вернул себе память и стал опираться на нее эмоционально и нравственно, когда противопоставил «профессионализму» «опекунов» знания и опыт своей профессии, когда в состязание вступили два профессионализма, тогда и только тогда у меня появились шансы на успех.
Где-то прежде я сетовал — кажется, и не раз, — что не у кого было спросить совета, санкции, заготовленных на столь необычный случай. Глупости, как это не у кого? У всей мудрости человечества, накопленной в литературе. Вот я спросил у Эрнеста Хемингуэя, притронувшись к краю его любимого столика: что скажешь, хороший писатель? И он ответил устами Джейкоба Барнса, героя «Фиесты»:
«Не огорчайтесь. Все страны похожи на кинофильм».
И устами старого Сантьяго, ведущего неравный бой с исполинской рыбиной в одиночку, в открытом море:
«…Человек не для того создан, чтобы терпеть поражения. Человека можно уничтожить, но его нельзя победить».
И еще он добавил, характерно прищурясь, выставив торчком короткую бороду:
«Мужество — как деньги. Тратишь и тратишь, а однажды ночью вывернешь карманы и увидишь, что они пусты. Именно тогда и начинается настоящее мужество».
Не спешите, поклонники и знатоки, восклицать негодующе: это не он! Да, не он — но некоторым образом и он тоже. Влияние его на всю последующую англоязычную литературу таково, что он незримо присутствует едва ли не в каждой звонкой, сочно написанной фразе.
Приведенные слова — из романа Джона Лe Карре «Маленькая барабанщица». Прочтите роман сами — он переводится. И сами решите, вправе ли я считать, что автор «Фиесты» и «Колокола» остался бы им доволен.
Читайте книжки, господа современные тюремщики! Нет, не похождения Джеймса Бонда и не сочинения Баррона, а настоящие книжки. Тогда, быть может, и поймете в конце концов, что голубая ваша мечта смирить человечество как была недостижимой от века, так и осталась. Не помогали ни костры инквизиции, ни лагеря смерти — не помогут ни электроника, ни атомный шантаж, ни психотропные снадобья. «Человека можно уничтожить, но его нельзя победить».
Всего я провел в Париже сто двадцать два часа, пять суток с небольшим. Пяти суток, по мнению спецслужб, было довольно, чтобы я убедился в тщетности попыток снова связаться с Сабовым и вообще увильнуть с уготованной мне дорожки. Пяти суток оказалось довольно, чтобы я понял: несмотря ни на что, час близится, скоро уйду. Возвращаясь из Парижа в Лондон — а как было не вернуться, если довели не до контроля даже, а до салона самолета, — я уже точно знал как и почти точно когда.
СТРЭТФОРД, КОРНУОЛЛ, ОСТРОВ УАЙТ. АНГЛИЯ В ПОСЛЕДНИЙ РАЗ
Как давно я пишу эту книгу? Формально — с осени 1986 года, а фактически? Заголовок «Кинофестиваль» длиною в…» родился, я рассказывал, хмурым декабрьским вечером в чреве лондонской позолоченной клетки. И многие названия глав возникали так же задолго до возвращения, а иногда и по свежим следам событий, и жили во мне странной призрачной жизнью, ворочались, обрастая подробностями, сопоставлениями, размышлениями по разным поводам, потом входили в подпольный надиктованный дневник… И все-таки это была еще не книга, а лишь заметки к книге, вешки на пути к ней. Каждая вешка была необходимой — сперва как средство сохранить рассудок, лекарство от одиночества и отчаяния, затем как подспорье памяти, как доказательство самому себе, что я жив и не сдался, борюсь и надеюсь… Но до книги, повторяю, было еще далеко.
На пресс-конференции 1984 года я объявил, что книга уже существует, мне так казалось. На самом деле я смог бы тогда подготовить разве что книжечку, собрав и наскоро расширив газетные репортажи. Мне это предлагалось, хорошо, что я воздержался. Не должен был я выходить к читателю с брошюркой-скороспелкой, которая вызвала бы вопросов больше, чем разрешила бы. Обязательно надо было сначала отдалиться от бурных «фестивальных» событий, отделить существенное от маловажного, закономерное от случайного, надо было просто побыть на Родине, поговорить с людьми, разобраться, что им понятно, что нет, что интересно, что нет, — тогда и только тогда можно было приниматься за книгу.
Но тем временем меня неприятно опередили.
Осенью 1985 года лондонское издательство «Вайкинг» выпустило в свет обширное сочинение в броской багровой обложке под заголовком «Британия Битова». Выпустило, как показал анализ, с единственной целью — хоть косвенно, хоть год спустя притушить общественный резонанс, вызванный моим возвращением на Родину и рассказом о пережитом. Был избран прием, которому не откажешь в известной оригинальности: якобы сразу вслед за разоблачительными репортажами я испек и издал в Москве книжку, порочащую Англию и англичан — не спецслужбы, не каких-то мало кому известных капитанов и полковников, а нацию в целом. Все-то в этой стране мерзко и убого, достойно издевки, и вот, не успев сносить купленных в Англии носков, я-де поспешил «просветить» и «позабавить» своих соотечественников серией пошлых анекдотов.