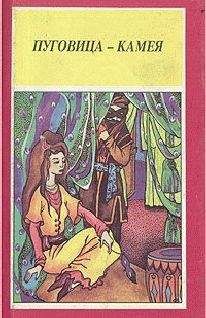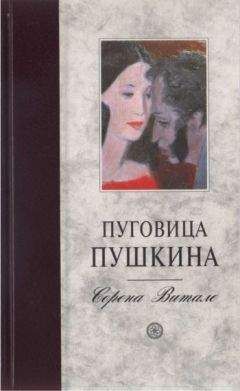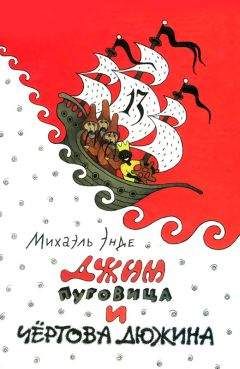Юлиан Семенов - Экспансия – I
— Слушайте, Боб, — сказал Роумэн, — можно я буду вас называть Боб? Это сэкономит уйму времени. Вместо шести букв только три, причем «р» произносится как две буквы, очень раскатывается, считайте семь, а не шесть.
— Тогда я стану называть вас просто Пэ. Согласны?
— Да как угодно! Можете Пэ. Или Рэ.
— Почему?
— Сокращенное от «Роумэн». За те дни, которые нам отпущены для бесед, набежит секунд сорок, это дело. Вы машину водите?
— О, да, конечно.
Пол покачал головой:
— Только не сердитесь, ладно, тогда я вам кое-что скажу.
— Я не знаю, как сердятся, дорогой Пэ. Или я дружу, или воюю, третьего не дано.
— Дано, дано! Вон как сверлили Бользена глазами, даже лицо осунулось. Нет, правда, а отчего вместо одного «да» вы ответили «о, да, конечно»?
— Оттого, что я так привык. Почему бы вам не сдерживать зевоту, например? Вы зеваете очень некрасиво, раскрываете рот, как депо, а зубы у вас отнюдь не такой кондиции, чтобы демонстрировать их посторонним.
— Именно посторонним и надо демонстрировать недостатки. Если они их примут, значит, станут друзьями. Если презрительно отвергнут — отойдут в стан недругов. Конкретика, во всем конкретика, да здравствует конкретика! Садитесь за руль, я боюсь уснуть, я засыпаю за рулем, понимаете?
— Хорошо, я охотно подменю вас.
— Любите быструю езду?
— Я предпочитаю ездить медленно, чтобы иметь возможность увидеть то, мимо чего проезжаешь. Быструю езду ненавижу.
— Уж и ненавидите, — снова хмыкнул Пол, остановив машину так резко, что занесло задок. — Выходит, я ее обожаю? Вы сторонник полярности? Третьего не дано и так далее? Но хоть по отношению к манере езды могут быть хоть какие-то оттенки? «Не очень люблю». Так ведь тоже можно сказать.
— Вы противоречите себе, Пэ. Вы себе грубо противоречите. Следуя нашей логике, слово «ненавижу» — это экономия секунд, а «не очень люблю» — расточительство. Мы же теперь во всем учимся у вас. Несчастные островитяне без колоний, какая-то медуза вместо империи, мифическое содружество, которое окончательно распадется без вашей протекции.
— Это точно, — согласился Пол, — разнесут по камню.
Он вышел из машины, помахал руками, сделал несколько приседаний, тщательно высморкался, сел на заднее сиденье, устроился поудобнее, вытянув ноги (хотел положить на спинку, но понял, что англичанин этого не переживет; если б я хоть что-то знал о нем, если б у меня был к нему серьезный оперативный интерес, надо было б позлить, очень способствует дружеству; сходятся именно те люди, которые начинали с ссоры), сунул ладонь под щеку и попросил себя уснуть.
— Вам не очень помешает, Пэ, если я включу радио? Я постоянно слушаю радио, когда приезжаю в чужую страну, — спросил Харрис.
— Валяйте. Только здесь слушать нечего, заранее известно, что скажут, могу написать загодя, а вы потом сверите с официальным текстом.
Харрис включил радио; передавали песни; последнее время Франко снял запрет на американские джазы — ждал, как прореагирует Вашингтон на столь «смелый жест». Они тут каждый пук рассматривают как внешнеполитическую акцию, подумал Роумэн. Будто нам делать нечего, кроме как анализировать, кто стоит за тем, что здесь разрешили дудеть нашим трубачам! Тоже мне, событие! Дудят себе, ну и пусть дудят, кому это мешает?! Гитлеру-то мешало, возразил он себе. «Американский джаз — искусство кривляющихся черных недочеловеков, разнузданные ритмы животных, глумление над великой музыкальной мыслью Вагнера и Баха». При чем здесь Вагнер и Бах? Это как если заставить промышленность лить одну сталь, запретив выпуск трусиков. Интересно, если б в Германии разрешили наш джаз, кто бы стоял за этим? Геринг? Пожалуй. Чудовище, конечно, но все же в нем были какие-то проблески живого человека. Остальные — фанатики, больные люди, психи, которым отдали на управление восемьдесят миллионов… Между прочим, картины Штирлица тоже не подарочек для их фюрера… Могли б сорвать погоны за эдакие-то цвета, размытость форм, личностность в отношении к пейзажу и портрету. Наверное, поэтому он и оставил все это в Испании. А что, здесь легче? Нет, просто, наверное, он верит этой бабе. Хорошая баба. Чем-то похожа на ту, курносую, в веснушках, которая стояла на Сан-Педро, чудо, что за девушка. А достанется какому-нибудь ублюдку. Нет, видимо, все-таки этот Бользен ехал к ней. Я бы на его месте поехал к такой красотке. Все в нашей жизни — хотим мы того или нет — зависит от женщины. Если ты вытащил выигрышный жетон в сумасшедшей лотерее жизни — будешь счастлив; промахнул — пеняй на себя, пей виски, кури, шастай по девкам, чтобы скорее закончить пребывание на шарике, все равно радости не дождешься. Да, но отчего он все-таки купил один билет в Сан-Себастьян? Он ведь мог взять два места. Да и потом, теперь у него есть деньги, вполне можно было арендовать автомобиль. Я бы поступил именно так, будь у меня приятельница, похожая на зеленоглазую. Не мерь всех на себя, это снобская манера никого к добру не приводила, сказал он себе, старайся примыслить человека, приблизить его к себе, но ни в коем случае не идентифицировать с собою; расчет его особенностей, привычек, выявленных черт характера и знакомств, позволит тебе составить более или менее верный психологический портрет. Значит, надо просчитывать эту самую Клаудиа, да и Харриса тоже, тем более что он из «Бэлл», а в том, что против меня плетет Эрл Джекобс с его бандой, надо тщательно разобраться, я ощущаю какой-то холод вокруг себя, я боюсь признаться себе в этом, но рано или поздно придется сесть за стол, взять перо и записать те позиции, которые меня стали беспокоить. Может быть, я слишком резко возражал против того, чтобы начинать альянс с разведкой Гитлера? Но ведь было бы глубоко непатриотично по отношению к Америке, если бы я высказывался за такого рода альянс! Мы измажемся в дерьме на глазах у всего мира, и отмыться будет не просто, скорее, даже невозможно. Все верно, меня не в чем упрекнуть. Но я снова впадаю в ошибку, возразил он себе. Я мыслю, как логик, а ведь у нас появились люди, исповедующие чувство, а не логику. И появились они не в театре, там — пускай себе, там даже надо так, но в Вашингтоне. Но я все равно никогда, ни при каких условиях не смогу согласиться с проектом использования немцев в целях обороны свободного мира. Делать вакцину против холеры, чтобы заразиться чумой? Перспектива не из радостных. Нет, но отчего же меня так поразили картины этого самого Бользена? Они поразили тебя потому, сказал он себе, что он очень закрытый человек, а в живописи открылся, сделавшись уязвимым. И это его внезапная открытость дает мне возможность использовать его для того, чтобы выявить всю сеть эсэсовцев, разбросанную не только в Испании, но и по всему миру; в Аргентине их пруд пруди, да и в Чили тысячи. Он будет моей козырной картой, именно он. Пусть тогда Эрл и его ИТТ попробуют ударить меня. Я отвечу фактами, и это будет такой удар, который положит в нокаут каждого, кто решит поставить мне подножку, это будет удар по тем истерикам, которые в своем страхе перед русскими готовы пойти на альянс с гвардией Гитлера. Бользен начнет работу с испанцами и ИТТ. Те и другие выведут его на тайные связи. Они станут моими. Если даже Бользен отдаст мне десятую часть информации, а он, видно, умеет ее дозировать, мое наблюдение дополнит то, что он решит скрыть. Он будет наводчиком, так даже удобнее, пусть, в конечном счете следует считаться с чувством человеческого достоинства, с ним иначе нельзя, он сокрыт в себе самом, он отличается ото всех тех наци, с которыми мне приходилось встречаться — и с теми, которые меня пытали в Брюкке, и с теми, которые сейчас живут здесь и читают лекции про угрозу мирового большевизма. Ладно, хватит, завтра у тебя много дел, а сегодня вечером ты должен накачать виски этого британца и разговорить его по поводу «Бэлл», ИТТ и всего остального, а потом положить его к какой-нибудь потаскушке, его только что изволили мордой об угол стола, очень обидно, я понимаю бедолагу, еще как понимаю. Спи, приказал он себе, вспомни маму и усни, ты легко засыпаешь, когда заставишь себя увидеть маму, услышишь ее голос и станешь затаенно ждать, когда она начнет рассказывать тебе страшную сказку с хорошим концом.
А Харрис гнал машину, выжимая акселератор до отказа, и по-прежнему думал о том, что все эти «Бэлл», ИТТ, «Мэйлы», Диктатуры, демократии, генералы ничто в сравнении с тем, что произошло у Клаудии. Нам осталось жить сущую ерунду, говорил он себе, какие-то пять-десять лет; можно считать, что мне уже сорок восемь, до декабря всего ничего, отпущен хвостик, а я один, всю жизнь один, потому что ждал, каждый день ждал встречи с чудом и проходил мимо того, что казалось обыкновенным, Клаудиа виделась мне простой испанкой, которая мечтает о том, чтобы нарожать кучу детей, устраивать ежедневные уборки, наблюдая за тем, как служанка развешивает на солнце простыни, посещать церковь и раз в год выезжать к морю, чтобы потом говорить об этом всю зиму. Но ведь она не такая, я сам виноват в том, что придумал себе такой образ, я не смог ее понять, навязать ей ее же саму, мужчина — если он настоящий мужчина, а не мозгляк, вроде меня, — обязан навязать женщине тот образ, который создал в своем воображении, она бы смогла реализовать это, наверняка смогла. Все беды происходят из-за недоговоренностей, боимся выглядеть смешным, слишком властным, слабым или чересчур сильным, а надо всегда быть самим собою, а я всю жизнь играл в тот образ, который придумал себе в колледже, стругал себя под этот идеал и достругался. А Штирлиц… Да, да, его тогда звали Штирлиц, верно, как же я мог это забыть, никакой не Бользен, а Штирлиц, а Клаудиа звала его Эстилиц и всегда замыкалась, когда я спрашивал ее о нем, и никогда не убирала его фотографии со столика, несмотря на то, что он не писал ей и не звонил; исчез, как в воду канул, а она все равно хранила его фотографии. А я приносил ей цветы и мучил ее разговорами про живопись Сислея и открытия Резерфорда. А ей нужен был мужик, властный и сильный. И мне теперь, когда я понял это, конец. Я не смогу подняться. И не вздумай лгать себе, что можешь. Думай о приспособлениях, тебе ничего другого не остается, сочини для себя пристойную и приемлемую ложь и следуй ей; найми какую-нибудь танцовщицу, тебе же нравятся женщины абсолютных форм, попробуй найти балеринку, которая нуждается в покровительстве, подчини ее себе и чувствуй подле нее свою силу. Или вытащи из бардака какую-нибудь проститутку, сними квартиру, она станет боготворить тебя, проститутки благодарные люди, они платят добром за добро. Ну да, возразил он себе, конечно, добром, как же иначе, только в ее животной памяти постоянно будут все кобели, а ты со своими комплексами будешь вроде как на десерт; когда человек сыт, он не откажет себе в том, чтобы съесть маленький кусочек вонючего сыра. Ты — не мясо, Роберт, ты сыр, сухой и невкусный, который подает твой дворецкий Беджамин на серебряном блюде, приросшем к его тонкой руке в синих склеротических прожилках.