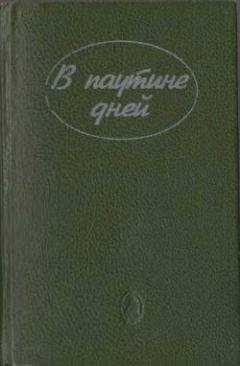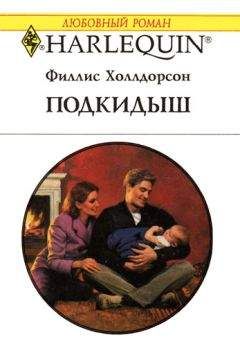Мануэль Монтальбан - Галиндес
Роман Дуран и Бонилья Атилес встретились потом в Гватемале, где это «семя» принесло свои плоды в виде социальных волнений и беспорядков. Пожав друг другу руки, эти два буржуа, строящие из себя пролетариев, как представители того коммунистического правительства, под игом которого изнемогала тогда славная земля Кецаля, радостно вспомнили фразу, сказанную при отъезде из Сьюдад-Трухильо. К сожалению, эта фраза оказалась трагически пророческой: коммунистическое семя проросло.
Когда после пронесшейся над Испанией бури на наши берега выплеснуло волну испанских иммигрантов, можно было надеяться, что за гостеприимство, оказанное им в горький час, они отплатят – если не благодарностью, то, по крайней мере, уважением и сдержанностью. Однако, стоило схлынуть волне испанской иммиграции, которую, за некоторыми исключениями, составили испанцы, отплатившие доминиканскому народу любовью и уважением и гармонично влившиеся в нашу среду, у нас осталось самое худшее – политики, коммунисты и анархисты, в которых недавняя трагедия оживила былую ненависть и злобу.
Коммунисты сразу принялись за работу. Еще в Париже, перед отъездом в Доминиканскую Республику, они получили последние инструкции Коминтерна. Часть приехавших, рабочие и крестьяне, стремясь точнее выполнить полученные секретные указания, отправилась на восток нашей страны и обосновалась в сельскохозяйственной колонии «Педро Санчес», будучи заранее прекрасно осведомлена, что в восточной части Доминиканской Республики на сахарообрабатывающих предприятиях занято большое количество рабочих. Они проводили подрывную деятельность, прикрываясь художественной и культурной работой, в результате которой студенты Роберто Маккейб Аристи и Дато Пэган Пердомо, а также рабочие Хустино Хосе дель Орбе оказались навсегда заражены марксистской заразой. Другая часть иммигрантов, так называемые интеллектуалы, сумела устроиться в наш университет. На первый взгляд перед ними стояла простая задача, хотя последствия ее выполнения должны были оказаться зловещими: распространить марксизм среди молодых студентов.
Горько признавать, что, стремясь к своей преступной цели, направленной против доминиканского народа, испанские коммунисты получили тайную поддержку доминиканского предателя – Хосе Антонио Бонилья Атилеса. Этому человеку, который публично – в прессе и на трибуне – превозносил Трухильо, а тайно поддерживал врагов Родины, религии и доминиканского семейного очага, помогал его родственник, молодой университетский преподаватель, доктор Моисее Бьенвенидо Сото Мартинес, который, выполнив свою миссию, отправился в Пуэрто-Рико, где впоследствии принимал участие в подрывной деятельности.
Среди этих испанских псевдоинтеллектуалов был и Хесус Галиндес или Хесус де Галиндес, как он стал называть себя позднее, перебравшись в Соединенные Штаты Америки. Это его за непрестанное шутовство и пристрастие ко всяким выходкам прозвали «баскский клоун». Когда Галиндес приехал в Доминиканскую Республику, на нем был только грязный потрепанный костюм. На нашей земле Галиндес, как и другие испанские иммигранты, обрел, благодаря великодушию и экуменическим настроениям генералиссимуса Трухильо, все, чего только может желать человеческое существо, вынужденное заново строить жизнь и заново обретать радость жизни: хлеб, крышу над головой, тепло и любовь, уважение, чувство самоуважения. И за все это он отблагодарил нас – так, как это принято у коммунистов.
Хесус Галиндес был о себе необычайно высокого мнения. Все знавшие его, – и это подтвердит любой, бывавший в те годы в университетской или интеллигентской среде, – чувствовали, что с каждым разом терпеть присутствие Галиндеса становится все труднее из-за его непомерного тщеславия, самовлюбленности, эгоизма и мании величия; мы не знали, что было ее причиной – то ли неправильная самооценка, то ли принижение достоинств всех тех, кто, как и я, имел несчастье быть с ним знакомым и общаться.
Галиндес называл себя простым человеком. Но слушая, как он расписывал свои подвиги во время войны, сопоставимые только с деяниями Сида Воителя или дона Пелайо, все невольно улыбались про себя. Конечно, он никогда ни словом не обмолвился о тех злодеяниях, что творил во время войны, в том числе и об одиннадцати казненных епископах.
Галиндес любил говорить о своей честности. Но всем было известно, что за небольшую сумму денег он был готов на мошенничество: опираясь на словари и помощь таких же, как он, неразборчивых в средствах преподавателей, он писал для нерадивых студентов дипломы и диссертации, а также рефераты, которые они потом должны были официально представлять факультетскому начальству.
Галиндес любил говорить о своей вере, похваляться ею. Но никто никогда не видел его с молитвенником в руке, не видел входящим в церковь или шепчущим слова молитвы. Напротив, он не только повинен в чудовищных преступлениях против несчастных испанских священников во время войны, но уже на нашей земле совершил ряд преступлений, вырвав молодых людей из лона церкви и заразив их марксистской заразой. Католицизм Галиндеса – наглая ложь, к которой прибегают коммунисты, когда им надо повести за собой людей или занять руководящие посты в учреждениях, никакого отношения к политике не имеющих. Баски – убежденные католики. Мог ли человек, называвший себя «руководителем баскской иммиграции в Доминиканской Республике», не кричать одновременно о своем католицизме, безусловно, вымышленном? И могут ли эти святые чувства сосуществовать рядом с сатанинским учением коммунизма?
И, наконец, Галиндес во всеуслышание называл себя «либеральным демократом». Подумайте, коммунист! Этот человек, Хесус Галиндес или Хесус де Галиндес, отстаивавший самое жестокое и противоречивое учение планеты, называл себя простым и честным человеком, католиком и демократом. И вот, находясь среди нас, этот человек сумел посеять зловонные семена идеологии, противопоставленной простоте, честности, католицизму и демократии. В университете Санто-Доминго Галиндес выполнил коммунистические инструкции, полученные им в Париже. И выполнил их в точности.
Молодые студенты – Франсиско Альберто Энрикес Васкес Чито, Феликс Сервисно Дукудрай Мэнсфилд, Мария Эрминия Орнес Куаску (Марикуса), Рафаэль Мур Гарридо и другие – превратились в фанатиков коммунизма благодаря усилиям Галиндеса, который как «баск, простой, честный человек, католик и демократ» смешался, не вызвав ничьего подозрения, с достойными гражданами Республики, которые простодушно поверили ему.
Мы сказали, что никто никогда не видел Галиндеса входящим в церковь. Но доминиканские власти не единожды убеждались в том, что Галиндес был завсегдатаем тайных собраний так называемой Революционной демократической партии Доминиканской Республики и близкой к ней партии «Революционная молодежь», на которых разрабатывались самые безумные террористические планы. Как наставник этой молодежи, Хесус Галиндес сумел разложить много молодых сердец, для которых теперь были закрыты пути к учебе и честному труду: их заразил коммунистической заразой человек, который, называя себя представителем баскского народа, оскорблял тем самым один из самых древних и достойных народов Европы.
Вместо любви и благодарности коммунист Хесус Галиндес испытывал ненависть к народу, который пытался направить его мысли и поступки в русло, предначертанное нашим великим лидером, генералиссимусом Трухильо, дабы построить мощный бастион на пути распространения коммунистического зла. Доминиканская Республика была необходима коммунистам, чтобы превратить Карибский регион в советское болото. Но Трухильо разбил их, и коммунисты ему этого не простят, как бы их ни звали, – Галиндес, Арсиньегас или Орнес Куаску.
Поэтому нам, доминиканцам, безразлично все, что сказали или могут сказать коммунисты своим лживым языком. Именно потому, что они – коммунисты».
Когда вы шли по направлению к Доминиканскому институту латиноамериканской культуры, ты мучительно вспоминала эту статью, но она представлялась тебе смутным набором не связанных между собой фраз и абзацев; но вот пред тобой воочию предстал ее автор – тридцать лет спустя. Подтянутый, вежливый старик; тебе представили его четвертым или пятым среди гостей, собравшихся у пышного, выстроенного в колониальном стиле здания, где собралось много людей, среди которых были и родственники Куэльо, – все они представляли интеллигенцию Санто-Доминго. А вон тот, кого считают сыном Галиндеса. И ты мгновенно переводишь взгляд на невысокого тридцатилетнего мужчину, который держится очень церемонно и явно взволнован этим вечером, устроенным в честь его отца, – во всяком случае, именно это произносят его губы, хотя тебе кажется, что в его глазах читается другое. В саду, под огромными колоннами, поддерживающими здание, среди пальм расставлены рядами складные стулья, на которых и рассаживаются приглашенные. Ночь необыкновенно жаркая и душная, и ты с особой остротой чувствуешь это, когда, сидя за столом президиума рядом с Куэльо, еще двумя выступающими и представителем местных властей, пытаешься собраться с мыслями. Слева от стола – небольшая трибуна, и тебе предстоит выступать первой, после краткого представления, – «исследовательница, неустанно пытающаяся воздать должное памяти Галиндеса»; при этих словах предполагаемый сын Галиндеса одобрительно закивал головой и уставился на тебя ничего не говорящими глазами. Теперь твоя очередь. Ты начинаешь волноваться, как на экзамене: ты не знаешь, будет ли им интересно то, что интересно тебе; тебе кажется, что для всех, кроме стариков, Галиндес – просто жалкое напоминание о злодеяниях режима Трухильо, который они смутно помнят по своему детству или ранней юности. Но постепенно ты успокаиваешься, видя заинтересованность на лицах сидящих, и с удовольствием слышишь собственный голос, все более и более проникаясь к нему доверием. Ты намеренно опускаешь все имена, чтобы не задеть случайно кого-нибудь из присутствующих, которые могли участвовать в охоте на Галиндеса, хотя бы и на второстепенных ролях, или их детей. «Этика сопротивления, – говоришь ты в заключение, – это нечто больше, чем определенная историческая ситуация. Это в первую очередь отношение к власти, потому что власть всегда вызывает подозрения, – и это не анархистское высказывание, а утверждение, основанное на эмпирическом опыте. Любая власть стремится к обособлению и к созданию собственной легитимной базы, в том числе и демократическая власть». Это одно из любимых положений Нормана, первое, чему он тебя научил, и сейчас мысль эта понравилась присутствующим, которые наградили тебя аплодисментами. И Паласон, встав, крепко пожимает тебе руку и направляется к трибуне, собираясь выступить. Он раскладывает перед собой листки исписанной бумаги, надевает очки, поднимает правую руку, на секунду задерживает дыхание, а потом начинает говорить; голос его звучит бодро и энергично – пожалуй, даже слишком для его семидесяти лет. «Я хочу почтить память удивительного человека, одного из тех испанцев, что приехали в нашу страну посеять тут семена демократии, которую они безуспешно пытались привить на своей родной земле. И у меня есть все основания сделать это, потому что я имел честь быть знакомым с этим великим человеком, хотя и был тогда всего лишь молодым скромным адвокатом, занимавшимся трудовыми спорами; но именно поэтому я в некотором роде оказался причастен к забастовкам рабочих сахарной отрасли в 1945 году, которые, как впоследствии оказалось, имели самое непосредственное отношение к деятельности этого великого баска, Хесуса де Галиндеса. Я работал бок о бок с ним, и этот человек заразил меня своей серьезностью и уверенностью борца за светлое будущее, несгибаемого, твердого борца, титанического…» Тут голос Паласона утратил былую уверенность, рука его уже не так решительно рубит воздух и, в конце концов, успокаивается. Теперь он обеими руками держится за трибуну, тело его склоняется, а губы едва слышно шепчут что-то. Ты завороженно следишь за его выступлением, как вдруг понимаешь, что с ним что-то происходит, что он почти склоняется на трибуне, тело его валится влево, и ты едва успеваешь вскочить и подхватить старика. Его тяжелое тело падает тебе на руки, и ты оглядываешься на присутствующих, взглядом прося помочь. Сразу подбегают люди, и вместе с ними ты переносишь старика на стул, где его тело обвисает, напоминая тряпичную куклу, – рот искривлен, а взгляд устремлен в галактику, которой остальные не видят. Никто не суетится вокруг него – все замолкли, и когда ты говоришь, что нужно вызвать врача, никто особенно не торопится, словно все это было задумано заранее. Но пока ты развязываешь тугой узел галстука и верхние пуговицы рубашки, под которой грудь его вздымается в прерывистом дыхании, кто-то все-таки вызвал «скорую»; за спиной у тебя кто-то произносит только одно слово – «инсульт», и ты понимаешь, что это точное определение. «Скорая» приезжает с той неспешностью, которая отличает жизнь в тропиках; уложенный на носилки старый Паласон кажется беспомощным раненым зверьком, который молит о сострадании собственный организм. Однако среди присутствующих не заметно сострадания, и чей-то голос, ты не знаешь, чей, произносит: «Это была месть – или Трухильо, или Галиндеса». Кто-то даже улыбается, и когда ты говоришь, что нужно заканчивать встречу, поехать в больницу, вообще что-то предпринять, ты наталкиваешься на вежливый отказ. Решительнее всех отклоняет твое предложение второй оратор, мужчина приблизительно тех же лет, что и Паласон, которого гораздо больше интересует то, что он собирается сказать, чем то, что произошло. И словно по мановению волшебной палочки все возвращаются на свои места, и вечер продолжается, – оратор клянется в верности памяти Галиндеса, ты ведешь вечер, а «скорая» мчит через тропическую ночь человека, который может умереть, потому что пытался обмануть собственную память. Оратор выступает с блеском, и ни словом не поминает случившееся только что на их глазах. Об этом почти никто не упоминает и тогда, когда начинается обмен мнениями, и люди, интересуясь твоей работой, говорят, что о Хесусе Галиндесе почти забыли, хотя именем его и названы две улицы, – сначала одна маленькая улочка, а потом другая, в районе Осама. «Вы там еще не были?» – «У меня пока не было времени, я только что приехала». – «И долго тут пробудете? Вы бы поездили по острову, побывали на пляжах Гуайаканес, побывали в Сан-Педро-де-Макорис и в Ла-Романа, в районах, где выращивают табак. Места вдоль границы с Гаити очень красивы, и на севере есть совершенно пустынные пляжи, я люблю их даже больше, чем восточное побережье». Некоторые останавливают тебя, чтобы что-то сказать о Галиндесе, и последним к тебе подходит сын Галиндеса. У него теплые руки, и он взглядом старается выразить солидарность, чтобы угодить тебе. «Я потрясен тем, сколько вы делаете ради памяти моего отца». Он повторяет эту фразу по меньшей мере трижды, а Хосе Исраэль мягко тянет тебя за руку, стараясь увести. «Или мы уходим, или мы тут застряли навсегда, – говорит он, воспользовавшись паузой в тираде Галиндеса-младшего. – Лурдес уже ждет нас в машине. Надо заехать в больницу». И он замолкает, пока ты не засыпаешь его вопросами: «Почему люди так холодно отнеслись к случившемуся? Почему они не сразу отреагировали на приступ старика?» – «Мюриэл, мы тут все знаем друг друга, и в той или иной степени все полагают, что Паласон заигрался в прятки с собственной памятью: то он покрывал грязью Трухильо, то Галиндеса». И ты защищаешь Паласона, словно он этого достоин. «Но ведь у него хватило мужества, – говоришь ты, – признать собственное прошлое, и всем присутствующим оно было известно, а он знал это». – «Да, это так», – соглашаются Лурдес и Хосе Исраэль. В больнице ты впервые видишь этот желтоватый полумрак, неразлучный спутник бедности в тропиках, так не похожий на яркость, излучаемую лампами дневного света. Около двери реанимации стоят родственники Паласона, печальные, но вежливые, и их любезность тебя удивляет: ты чувствуешь себя прямой виновницей случившегося. «Положение стабилизируется… Конечно, ситуация серьезная, но, кажется, не безнадежная. Разве можно волноваться в его-то годы…» Они произносят все то, что обычно говорится в больницах или на похоронах. «Этот человек может умереть сегодня ночью, а он не больше других заслуживает этого. Непосредственные палачи сидят себе перед телевизором, неразличимые в желтоватом полумраке, а Паласон сломался, живя столько времени с двумя правдами в душе, – философствует Хосе Исраэль по дороге домой. – Да, он сломался, именно сломался: он очень ждал этого вечера, хоть и нервничал. Он понимал, через что ему придется пройти, и относился к этому очень серьезно». Хосе Исраэль и Лурдес живут в большом доме колониального периода, где уже ждут их некоторые участники вечера вместе с друзьями и родственниками. Они с интересом обсуждают возможную судьбу Паласона, но гораздо больше их интересует твоя работа, Испания и то, где ты выучилась так хорошо говорить по-испански. «Мы в Санто-Доминго всегда очень ревниво относились к нашим языковым особенностям, – говорит тебе преподаватель университета. – У нас всегда был комплекс, что мы слишком обеднили собственную речь». Доктор Антонио Саглуль, блестящий знаток доминиканских традиций и обычаев, сказал, что любой доминиканский оратор, какой бы культурой он ни обладал, всегда производит впечатление человека, у которого часть слов застряла в тех отделах головного мозга, где расположены наши языковые центры. «Вы легко можете угадать профессию говорящего, потому что он всегда пользуется профессиональными выражениями: врач – медицинскими, а политик, из этих малообразованных нынешних политиков, – словами, в которых не хватает букв, до такой степени они затерты. у коммунистов свой профессиональный словарь, но в нем не больше десяти страниц, не правда ли, Хосе Исраэль? Правые – те честнее, и когда им не хватает слов, они начинают размахивать руками, как глухонемые». Хосе Исраэль улыбается и, то и дело предлагая тебе что-нибудь выпить – виски, ром, вино, сок, – проводит тебя по комнате, переходя от одной группы к другой. Скоро ты начинаешь чувствовать себя совсем легко в этой большой гостиной, где Лурдес и ее сыновья, очень похожие на мать, занимают гостей, не переставая заботиться о том, чтобы те ели и пили. Некоторые из присутствующих историков заводят с тобой разговор о Галиндесе и удивляются, выяснив, что ты читала и книгу Мигеля А. Васкеса «Хесус де Галиндес, по прозвищу Баск», и исследование Бернардо Веги об испанской иммиграции 1939 года и становлении марксизма-ленинизма в Доминиканской Республике. Бернардо Вега даже прислал тебе свои последние выписки из переписки Трухильо, которые свидетельствуют о том, насколько близко к сердцу диктатор принимал все, связанное с Рамфисом, ставшего потом, в связи с разоблачениями, касавшимися его происхождения, пациентом психиатров. Вега считал, что именно этот момент и стал причиной необузданной ненависти Трухильо к Галиндесу. Тень диктатора еще присутствует здесь, она нет-нет да и заслонит собой память этих интеллигентных доминиканцев, отзывающихся о нем как о человеке, положившем начало эпохе, в которой они живут до сих пор. Его зверства стали теперь забавными историями, равно как и форма тирана, учрежденная специальным декретом в 1947 году: фрак особого покроя, отделанный золотом, весом в двенадцать килограммов, и головной убор, тоже отделанный золотом и перьями, перчатки тончайшей кожи, трехцветная лента с золотыми подвесками, лаковые туфли с золотыми пряжками, – как он справлялся с такой тяжестью под палящим тропическим солнцем? «Слова мои тускнеют, а чувства отступают, когда я вижу перед собой Трухильо, величие которого затмевает величие Колумба», – писал один испанский эмигрант, потрясенный количеством золота и перьев на униформе Трухильо. «Вы знаете статью в «Ла Насьон», где Трухильо сравнивают с младенцем Христом? Забавная статейка, она называется «Свершившееся чудо», и в ней описывается родной дом Рафаэля Леонидаса Трухильо как Вифлеемские ясли: «Все в природе пронизано восторгом… и странный, неземной свет окутывает невзрачный домик, где во всем сквозит трудолюбие и святость… Этот дом – наши Вифлеемские ясли… 24 октября 1891 года тут произошло чудо – родился Рафаэль Леонидас Трухильо-и-Молина!» Присутствующие вежливо смеются над собственным прошлым, которое не ушло бесследно, и свидетельством тому – переживший диктатора Балагер. И поединок Трухильо – Галиндес они воспринимают как часть этого прошлого, злой рок, от которого не мог уйти даже диктатор. Галиндес? Его поведение для них загадка. Они расспрашивают тебя об его идеологических взглядах, и тебе, хотя голова твоя и затуманена количеством выпитого рома, приходится демонстрировать свою эрудицию и напоминать присутствующим о статье Галиндеса, опубликованной в 1953 году в журнале «Герника». В этой статье он выступает против оголтелого баскского национализма и за ассимиляцию рабочих-иммигрантов, потому что некоторые из них, хоть и не имеют к Басконии никакого отношения, любят ее народ и готовы внести свой вклад в борьбу за его свободу и процветание. «Кроме того, – добавляет Галиндес, – единственное, что мы можем противопоставить коммунизму, – это более удачные решения проблем, и мы, баски, можем предложить в качестве основы для такого решения традиции нашего народа, который избежал революции, но живет достаточно хорошо благодаря свободе». – «Какая интересная мысль!» – «И совершенно необычная для того фанатичного времени». Хосе Исраэль молчит как сфинкс, пока ему не кажется, что пора переместиться в сад, и он помогает Лурдес, приглашая всех к столам, уставленным типичными блюдами доминиканской кухни. Ты слишком много выпила, и закусить как следует будет сейчас совсем не лишнее, поэтому ты накладываешь на тарелку всего понемножку, стремясь отведать каждого блюда, и заключаешь все это пирожным. «Полагается улыбаться, когда едите это пирожное, потому что оно называется «Радость», – говорит тебе кто-то с чисто креольской вежливостью. Здесь все – креольская культура и интеллигентная вежливость; большинство этих людей в прошлом боролись за прогресс, но постепенно отошли в сторону: годы брали свое. «Мне кажется, вы чем-то расстроены», – говорит тебе Лурдес, и ты признаешься, что не можешь забыть того, что произошло в Институте, что тебя не оставляет ощущение фатальности – произошло то, что должно было произойти, – и поразительной пассивности людей. «Вы очень точно выразились – «пассивность», нас приучили быть пассивными. В доминиканском варианте испанского языка есть особое выражение, которым обозначают человека, подозрительно относящегося ко всему, особенно когда дело касается политики, но не только ее. Это – сформированная всей нашей историей черта, Трухильо только несколько укрепил ее. Мы ничему не верим – обстоятельствам, людям, самим себе». – «Но вы всегда улыбаетесь». – «Конечно. Быть недоверчивым – не значит быть невежливым; мы улыбаемся и тому человеку, которому не верим». Но тут подходит Хосе Исраэль и интересуется твоими планами на завтрашний день, но просит тебя оставить свободное время, потому что, как он говорит: «Мы сегодня раскинули сети, и в них наверняка попалась какая-то рыбка». – «А если никто не почувствует к нам доверия?» – «Вы прекрасно знаете, что и люди, и народы иногда бросаются из одной крайности в другую. Говорят, что, когда испанцы высадились на этих островах, они обнаружили тут немых собак, которые не умели лаять. Много лет назад в тюрьме «Ла Куарента», за стенами которой мучили и убивали людей, кто-то повесил плакат: «Кабы не рот, Рыбка б не попалась». После Трухильо в этой стране практически не было катарсиса, потому что его режим очень быстро сменился режимом, установленным по взаимной договоренности Балагером и американцами; но все-таки следует признать: той атмосферы страха, в которой жило мое поколение, уже не было, – ни страха, ни мужества. Поэтому кто-нибудь что-нибудь расскажет. Я уверен, что какая-нибудь рыбка попадет в сети». В другом конце сада люди до слез хохочут над шутками толстяка Фредди, ведущего популярной телепередачи и большого друга Куэльо. Ты подходишь и скоро обнаруживаешь, что в основе всех этих шуток, как чаще всего бывает с шутками, кто бы и где бы их ни рассказывал, лежит какая-то грусть. Хосе Исраэль, поняв, что твоя усталость уже пересиливает твою вежливость, предлагает проводить тебя до гостиницы; по дороге он дает тебе возможность помолчать, рассказывая о своих гостях. «Все они – люди передовых взглядов, хотя к прошлому относятся по-разному; и всех объединяет ощущение, что надо что-то делать, но они не знают, что именно. Впрочем, не придавайте нам слишком большого значения. Доктор Саглуль писал, что все доминиканцы – параноики и что только благодаря этому мы и выжили. Кстати, об этом недоверии, о котором мы разговаривали. Когда мы видим в газете некролог, первое, что нам приходит в голову: «Его убили». Если пишут, что кто-то утонул, мы думаем: «Ага, его утопили». Если пишут, что кто-то повесился – «Его повесили». А все дело в том, что на протяжении нашей истории людей убивали гораздо чаще, чем они умирали естественной смертью. Это свойственное нам недоверие можно выразить словами «поймать на удочку» или «устроить западню». Тот же Саглуль рассказывает, что, когда стал директором сумасшедшего дома, он обнаружил пациентов, попавших туда задолго до 1930 года, то есть задолго до Трухильо, и все они боялись говорить о политике. Все, даже сумасшедшие, боялись, что их «поймают на удочку». Но, когда это недоверие удается преодолеть, люди впадают в другую крайность: ими овладевает желание освободиться от паранойи – свидетельство паранойи». И ты вспоминаешь, как вы с Хосе Исраэлем разговаривали о Трухильо и он сказал что-то вроде того, что диктатор боялся за свою жизнь, боялся, что его поймают на удочку. Хосе Исраэлю нравится, что ты так быстро подхватываешь местные выражения, и он с удовольствием возвращается к тому разговору. «Проведя день в нашем обществе, вы лучше поймете, что я имел в виду. К тому же речь о двух людях, которых вы себе представляете, – о Трухильо и о Балагере. Дело было в конце 50-х. Трухильо загнали в угол внутренняя и внешняя оппозиция, последствия дела Галиндеса, Мёрфи, де ла Маса, к тому же американцы его больше не поддерживали. Представьте себе сцену: в лифте едут Трухильо и Балагер. Трухильо целиком погружен в свои мысли и, задумавшись, проводит рукой вокруг себя, вокруг своей шеи и восклицает: «Я верю только в это, больше ни во что!» То есть – убиваешь ты или убивают тебя. Это была его философия, которой он обосновывал все свои действия». Хосе Исраэль провожает тебя до стойки портье, чтобы узнать, звонил ли тебе кто-нибудь. Да, три человека. Ты протягиваешь ему бумажки с их именами, и он внимательно их читает: Хосе Ривера Макулето, Данте Лафорха Кампс, Люси де Сильфа. Он улыбается и переписывает их на бумажку, которую вытаскивает из кармана пиджака. Возвращает тебе записки и советует встретиться с Люси де Сильфа, в прошлом женой Сильфы, которая наверняка хорошо знала Галиндеса, когда тот жил в Нью-Йорке. Два других имени ему неизвестны, и он должен узнать, что это за люди. «Меня хотят поймать на удочку?» – «Не исключено». Завтра утром ты хочешь сходить на улицу, названную в честь Галиндеса, и тебе удается уговорить Хосе Исраэля отпустить тебя одну: ты отправишься на такси. А потом, оставшись одна в номере, отыскиваешь среди своих бумаг статью Паласона и перечитываешь ее, пытаясь проанализировать с разных точек зрения – с точки зрения людей, присутствовавших на сегодняшнем вечере; с точки зрения исследовательницы, много лет занимающейся Галиндесом; с точки зрения человека, который боится страха других. Ты выходишь на террасу и, перегнувшись через перила, видишь внизу туристов, еще не разошедшихся после ужина, где, согласно вывешенному внизу объявлению, по четвергам всегда устраивают барбекю. Этот пятачок внизу – единственное освещенное пространство на добрую сотню километров вокруг; все остальное – желтоватый полумрак, в котором теряются размытые очертания города, тот желтоватый полумрак, который ты уже видела этим вечером в больнице. Ты набираешь номер – узнать, как чувствует себя сеньор Палансон. «Знакомая, его американская знакомая». – «Сеньор Палансон спит. Ему лучше».