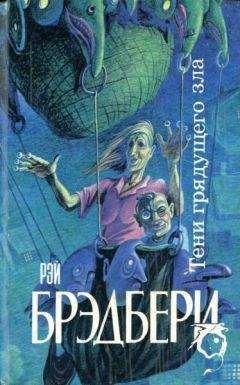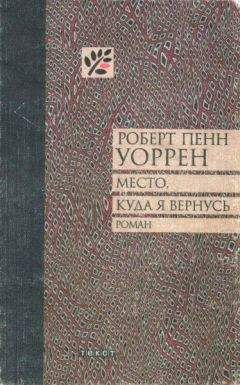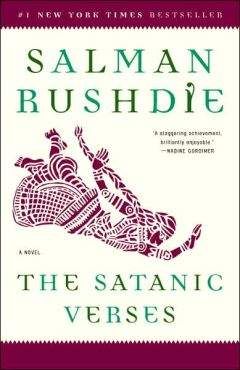Стив Сомер - Кумир
Осторожно, словно боясь спугнуть бродящего во сне лунатика, Манкузо положил фотографии обратно.
— К утру у меня начался бред. Муж вызвал врача, мне дали успокоительное. Но я не переставала плакать. Неделю за неделей. В конце концов он позвал священника. Как только мы остались один на один, я во всем ему призналась. Но он отказывался мне верить. И я показала ему эти фотографии. Когда он их увидел, увидел мои синяки и кровоподтеки, то пошел к Терри и стал умолять его позволить мне обратиться к адвокату. Терри отказался. Священник настаивал — и тогда муж предложил, чтобы меня поместили сюда — в больницу кармелиток. После того как я пробыла здесь два года, суд сделал Терри моим душеприказчиком.— Харриет сделала паузу и заключила: — А фото я оставила у себя.
Манкузо молча встал.
— Сейчас, надеюсь, вы уедете в свой Вашингтон и оставите меня в покое?
— Да.— Он нагнулся, взял шляпу и саквояж.
— Мистер Манкузо…
— Да?
Какое-то мгновение казалось, что она наконец обернется к нему, но она так и не обернулась.
— Если вы… увидите Терри, то скажите: я его ПРОЩАЮ. Хорошо?
Манкузо немного постоял, глядя на отвернувшуюся от него женщину. Потом нахлобучил шляпу и твердо ответил:
— Нет.
14.30.
Катер двигался на север, прорезая волны залива. Салли и Росс сидели на стульях, прикрепленных к корме. На третьем стуле, привалившись спиной к рубке, сидел один из матросов, положив на колени двухстволку-дробовик. Он не спускал с них глаз, и Салли тоже не отрываясь глядела на него.
Это был совсем еще молодой парень, почти подросток. Плотного сложения, широкоплечий — типичный выходец из Центральной Америки. На его переднем зубе красовалась золотая коронка. Над верхней губой виднелся пушок, заменявший пока усы, а в черных узких глазках таилась ночная зоркость.
Катер приближался к району Эверглейдс[106]. Все дальше назад уплывали роскошные, розового камня, особняки с гипсовой лепкой и белыми ступенчатыми крышами. Все ближе надвигались на них заросли глициний, папоротника, платанов, доходя почти до поросшего камышом берега.
Салли почему-то вспомнился ржавый пароходик, который увозил ее на юг зимой 1970 года. Тогда Красный Крест подыскал для нес место медсестры в Санта-Амелиа на Рио-Коко. Это был самый удаленный от границы с Сальвадором район Гондураса. И главное, дальше других от деревушки Лагримас и от горьких воспоминаний о "футбольной войне".
…Канал, разрезавший Эверглейдс надвое, стал постепенно расширяться. Салли увидела, как Росс, встав на цыпочки, вглядывается поверх рубки в очертания стоящей на берегу виллы. Ее стены, цвета слоновой кости, были увиты красноватым диким виноградом и от этого казались малиновыми. Салли особняк этот был довольно хорошо знаком: она уже бывала здесь раньше.
Вилла во Флориде принадлежала Сомосе, вернее Сальвадоре Дебейле, жене Анастасио Сомосы Гарсиа, того самого человека, который в 1934 году приказал убить Сандино, а в 1936-м, свергнув Сакасу, стал президентом Никарагуа и начал править страной, зажатой в тисках террора.
Родоначальник династии сидел в президентском дворце до 1956 года, пока заумный фанатичный поэт Лопес Перес не пристрелил его. По смерти Анастасио разбухшие банковские счета отца унаследовал сын Луис. После того как он скончался в 1967 году от коронарной недостаточности, все его недвижимое имущество, включая " La Rеserva "— под таким названием был известен особняк в Майами, авиа- и пароходную компании, обширные плантации в Никарагуа, а также президентство и тесные связи с администрацией Джонсона в Вашингтоне перешли к его младшему брату Тахо.
К тому времени, когда Тахо Сомоса был свергнут сандинистами и убит в Асунсьоне в 1980 году, Салли уже давно была за пределами Гондураса и Рио-Коко и успела поработать сперва в Хьюстоне, а затем в Вашингтоне. Люди, полагавшие, что знают ее, считали, что она — типичный пример витающей в облаках, непрактичной идеалистки. Если ей удавалось найти подходящего собеседника, она частенько засиживалась с ним за чашкой кофе далеко за полночь, рассуждая об ошибках американской политики в Центральной Америке.
Бывшие сомосовские гвардейцы, которых ЦРУ снабжало оружием и деньгами, обосновались теперь в болотистой долине Рио-Коко. А престарелый Хулио Рамирес Бланко, бывший министр иностранных дел при Тахо и его отце, основателе сомосовской династии, поселился в " La Reserva ", где правые заговорщики занимались подготовкой контрреволюции.
Прошло восемь лет. Старец, ему было уже далеко за семьдесят, все еще сидел в Эверглейдсе, по-прежнему исходил слюной от ненависти к сандинистам, оставаясь официальным представителем правительства в изгнании. В этом своем качестве он принимал сейчас Салли и Росса.
Бледный и худой, с молочно-мутными катарактами на обоих глазах, он, казалось, носит на лице свою посмертную маску. Практически Рамирес совсем ослеп, так что, когда подали чай, он сперва нащупал край стоявшего на столе блюдца, а затем осторожно начал исследовать кончиками скрюченных артритных пальцев ободок чашки, пока не наткнулся на ручку. Но его английский был точен, а голос тверд.
— В конце концов, нет ни побед, ни поражений. Только сражения и женщины, которые плачут над могилами павших,— изрек он, обращаясь к ним обоим.
Росс поглядел на Салли. Она подалась вперед, упершись локтями в колени, обхватив ладонями подбородок и ловя каждое слово Рамиреса.
— Если наша революция победит, побежденные уйдут в горы. А когда победит их революция, на борьбу поднимется уже следующее поколение. И так оно идет, из поколения в поколение, пока люди не забудут причины, из-за которой это все когда-то началось.
Нашарив чашку, старец взял ее обеими руками и поднес чай к губам.
Россу все это начинало надоедать: пора было переходить к делу.
— Мистер… простите, сеньор Рамирес, мы пытаемся найти человека, который убил Октавио Мартинеса.
Голова старца дернулась: похоже, ему хотелось узнать реакцию Салли. Он снова нашарил кончиками пальцев блюдце и поставил чашку на место.
— Нет, нет. Тавито[107] не был солдатом. Он был учителем. Вы знали это?
Росс, сбитый с толку, вопросительно посмотрел на Салли.
— Да, конечно. Я об этом знал. Но вообще-то нас интере…
— Потом он ушел в джунгли,— ровным голосом продолжал старец и вдруг замолчал.
Он довольно долго сидел так, обратив лицо к свету, и Росс начал спрашивать себя: почему он так скован и совсем не расположен вести беседу.
— Сеньор Рамирес?
— Si[108],— ответил старец, вздрогнув.
— Сеньор Рамирес, как вы думаете: мог Ортега подослать убийцу в Америку, чтобы расправиться с Мартинесом?
Старец покачал головой и тихо рассмеялся:
— Нет, muchacho[109]. Ортега хочет выглядеть государственным мужем, а не солдатом. У Ортеги есть друзья в журнале "Тайм". И в Ассошиэйтед Пресс тоже. Он считает, что если сумеет выиграть войну в американской прессе, то со временем выиграет ее и в джунглях.
— Но кто же тогда отдал приказ убить Мартинеса? — спросил Росс.
Наступило долгое молчание.
— Простые люди становятся добычей тех, кто жаждет власти,— изрек старец.
Росс огляделся. Взор Салли был по-прежнему устремлен на Рамиреса: глаза ее отблескивали льдом. Хотя тот и не мог их видеть, он, казалось, съежился от пронзившего его тело холода.
— Жажда власти,— продолжал Рамирес не слишком уверенно,— это… это страшный зверь, который поедает все. И чем больше ему дают пищи… тем… больше он сам становится. А чем больше становится… тем больше растет его аппетит. Те, в чьих руках власть, хотят, чтобы ее было как можно больше. А те, у кого она абсолютная, наиболее ненасытны.
— Но кто же они? — продолжал настаивать Росс.— Кто?
— Молодой человек, вы что, тоже слепы? — И Рамирес, нащупав стоявшую рядом с ним трость и опираясь на подлокотник кресла, поднялся во весь свой рост.
Следом за ним встал и Росс.
— А сейчас прошу меня извинить,— произнес старец и, шаркая, пошел к дверям…
— Господи Иисусе, это же надо — потерять столько времени! — не сдержался Росс, когда они сидели на корме катера, увозившего их прочь от виллы " La Reserva ".
Салли, однако, ничего не ответила. Она сидела, вся уйдя в себя, в дальнем углу палубы.
— Этот тип безнадежен,— заключил Росс.— Ничего удивительного, что они никак не могут выиграть эту войну.
17.40.
Со стороны они выглядели как трое старых закадычных друзей, каких можно немало увидеть после полудня на скамейках парка, мирно беседующих о былых временах,— в рубашках с расстегнутыми воротничками, в стареньких шерстяных пуловерах, в брюках, пузырящихся на коленях и сзади. Таких старичков можно было видеть и на трибунах во время военного парада в День памяти[110] — солдат, пришедших, казалось, из какой-то другой эры. В голубых с золотом фуражках ветеранов иностранных войн. И пусть им не так-то просто бывало подняться, когда проносили знамя, зато они стояли потом прямо, как часовые, приложив к сердцу покрытые старческими пятнами руки. И, глядя на них, вы понимали: за эту свою привилегию они заплатили слишком дорогую цену.