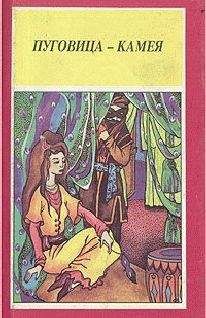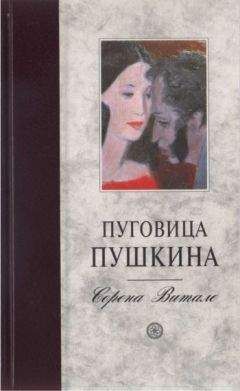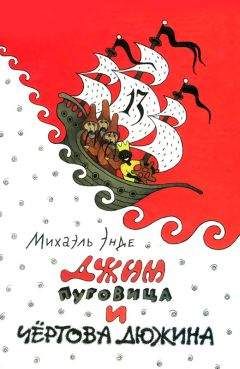Юлиан Семенов - Экспансия – I
— Как долго вы пробыли в тюрьме?
— Недолго… Три месяца… Но потом я все время была в гетто…
— Вы чистая еврейка?
— Я чистая немка.
— Как?!
— Да, это правда. В этой стране, слава богу, можно не скрывать свою национальность. Пока еще здесь меру ценности человека определяют по работе или таланту, а не по национальному признаку.
— Можете поехать в Советскую Россию, — улыбнулся Барбье. — Там гарантировано равенство и негров, не то что евреев…
— Мне и здесь хорошо, господин Бринберг. Мне было очень плохо на моей родине, я ненавижу ее, я ненавижу немцев, мне стыдно, что я рождена немецкими родителями…
— Я понимаю вас, фрау Рубенау, я так вас понимаю…
— Но ведь вы не могли пострадать от гитлеровцев, вы же швед…
— У меня погибла двоюродная сестра, Дагмар Фрайтаг…
— Кто?
— Это была очень талантливая женщина, филолог, умница… Ее погубил тот же человек, который, как мы полагаем, был убийцей и вашего мужа…
— Как его фамилия?
— Вам она неизвестна?
— Нет, мне-то она известна, я уже сообщала о нем здешней полиции, его ищут, этого садиста… Но я хочу, чтобы вы мне назвали это имя, господин Бринберг… Нацисты приучили меня никому не верить. Я даже себе порою перестаю верить, я не всегда верю детям, мне кажется, что и они лгут мне, особенно когда задерживаются после школы…
— Мы смогли получить информацию, что человеком, виновным в гибели вашего мужа, был некто Борзен, доктор Борзен из гестапо…
— Это неверно. Бользен, вот как будет правильно. Но у него есть и вторая фамилия. Штандартенфюрер Штирлиц.
— Вы когда-нибудь видели его?
— Да, — ответила женщина.
— Можете опознать?
— Я узнаю его из тысяч. Я узнаю его, даже если он сделал пластическую операцию. Дети получат образование, станут зарабатывать деньги, мы накопим на то, чтобы начать свой поиск, и мы найдем этого Штирлица. Мы его найдем. Я узнаю его и убью. Сама. Без чьей-либо помощи. Его ищут вот уже несколько месяцев. Но я не очень-то верю, что его найдут.
— Почему?
— Так… У меня есть основания думать именно так, господин Бринберг.
— К сожалению, я должен с вами согласиться, фрау Рубенау. У мира короткая память. Все хотят поскорее забыть ужас. Все алчут получить от жизни то, чего не успели получить раньше, в этом сказывается несовершенство человеческой натуры. Но мы не намерены забывать. Мы не забудем. Мы тоже намерены карать сами. Не дожидаясь того времени, когда начнут действовать власти. Мы уже нашли двух мерзавцев… — Барбье достал из кармана фотографии, переданные ему Мерком. — Этот, длинный, был надсмотрщиком в концлагере Треблинка. Мы схватили его и отдали в руки властей. Второй, гестаповец Куль, сейчас транспортируется нами в Германию из Эквадора…
— Ну и что же с ними будет? — женщина вздохнула. — Им дадут возможность оправдываться, как это позволяют Герингу и Штрайхеру? Выделят адвокатов? Будут помещать их фотографии в газетах? Брать у них интервью?
— И снова я согласен с вами, фрау Рубенау. Но ведь сидеть в тюрьме, ожидая приговора… Это казнь более страшная, чем расстрел на месте…
— Не сравнивайте тюрьмы союзников с нацистскими. Вы не знали, что это такое, а я знала…
— Скажите, фрау Рубенау, вы бы не согласились отдать вашего мальчика в нашу школу для особо одаренных детей? Он ведь по-прежнему сочиняет музыку, ваш восьмилетний Моцарт?
Он знал, как работать с матерями, этот Барбье, он знал, как работать с женщинами, сколько раз он выходил через них на их детей и отцов, он умел вести свою линию — неторопливо, вдумчиво, сострадающе…
— Я не смогу жить без него, господин Бринберг. Я тронута вашей заботой о Пауле, но мы больше никогда не будем разлучаться…
— Тогда мы готовы предоставить вам субсидию, чтобы вы могли оплачивать его учителя музыки…
— Что я должна для этого сделать?
— Ничего. Согласиться ее принять, всего лишь, — скорбно улыбнулся Барбье. — Открыть счет в банке, если хотите, мы это сделаем сейчас же, и — все. Мы станем переводить на этот счет деньги. Не бог весть какие, мы живем на частные пожертвования, но все-таки это будет вам хоть каким-то подспорьем.
— Спасибо, — ответила женщина. — Большое спасибо, это очень нам поможет.
— Ах, не стоит благодарности, о чем вы…
— Что-нибудь еще?
— Нет, нет, это все, что я вам хотел сказать. Пойдемте откроем счет, и я откланяюсь…
— Но у меня нет свободных денег…
— Они есть у меня. Они не свободны, впрочем, — Барбье вздохнул, — поскольку принадлежат вам. Кстати, вы вправе подать в суд на этого самого Бользена-Штирлица, пусть в Нюрнберге подумают, как им быть с рядовыми головорезами. Потребуйте, чтобы вам положили пенсию за ущерб, нанесенный СС. Это ведь СС лишило вас кормильца…
— Думаете, такой иск станут рассматривать?
— Смотря как написать, фрау Рубенау. У вас есть хороший адвокат?
— Консультация у хорошего адвоката стоит сто франков. У меня нет таких денег.
— Этот хороший адвокат, — Барбье тронул себя пальцем в грудь, — не берет со своих. Мы вернемся, и я составлю иск…
Они спустились вниз; Барбье чувствовал напряженность, которую испытывала женщина; это хорошо, подумал он, это именно та натура, которую побеждают поэтапностью, она скажет мне все, что я должен от нее получить.
В банке он открыл на ее имя счет, положив пятьдесят франков, потом пригласил ее в магазин и купил детям шоколада, фруктов и жевательных резинок; вовремя себя остановил, потому что сначала был намерен взять чего подешевле — колбасы, масла и сыра; ты же швед, остановил он себя, только немцы сейчас испытывают голод, эта баба сразу же все поймет, она из породы умных, хоть и доверчива; впрочем, недоверчивость — удел бездарных людей, не пойми я этого в Лионе, моя работа не была бы столь результативной.
— Что вы знаете об этом мерзавце? — спросил он, поговорив предварительно о растущей дороговизне и о необходимости отправлять детей на отдых в горы, это же совсем рядом, крестьянское молоко совершенно необходимо, закладываются основы на всю жизнь…
— Ничего, — ответила женщина. — У меня есть его фото и отпечатки пальцев. Подлинники я отдала в полицию, копию храню у себя. Это все, что у меня есть.
— Уже немало. Вы себе не представляете, насколько это важно для криминалистов. Как вы получили его фото и отпечатки пальцев?
— Мне передал его начальник. Он был странным человеком. Наверное, понял, что война проиграна, и делал все, чтобы самому как-то выкрутиться… Он и открыл мне, что Вальтера убил Штирлиц.
— А как звали того человека?
— Он сказал, чтобы я никогда не вздумала называть его имени.
— Но вы знаете его имя?
— Да.
— А если я угадаю? Если вы ответите на мои вопросы и я угадаю, это не будет нарушением вашего слова. Вы согласны?
— Да, — ответила женщина после долгой паузы.
— Где состоялся ваш разговор?
— В его кабинете.
— В Берлине?
— Да.
— В учреждении?
— Да.
— В гестапо?
— Да.
— Где оно помещалось?
— Вы не знаете, где помещалось гестапо?!
— Это не удивительно. Я швед, я никогда не был в Берлине…
— На Принц Альбрехтштрассе…
— Там помещалось не только гестапо, фрау Рубенау. Там была штаб-квартира всего РСХА, — отчеканил Барбье и, только закончив фразу, понял, что допустил промах.
— Откуда вам это известно? Как вы знаете об этом, если никогда не были в Берлине? — сразу же спросила женщина, но он уже был готов к этому вопросу, поняв, что своей осведомленностью отбросил ее к первоначальной настороженности.
— Этот адрес теперь известен всем, фрау Рубенау. Читайте материалы Нюрнбергского трибунала, ведь они печатают массу документов, и мы их весьма тщательно изучаем…
— Ах, ну да, конечно…
— На каком это было этаже?
— Не помню… Нас очень быстро провели по лестнице, мы были окружены со всех сторон эсэсовцами…
— С вами были дети?
— Со мной была Ева. Пауля этот господин разрешил отправить в швейцарское посольство…
— Опишите этого господина, пожалуйста.
— Это трудно… У него была очень изменчивая внешность…
— Он был в форме?
— Да.
— Сколько у него было квадратов в петлице?
— Я не помню… Нет, нет, я совершенно этого не помню…
— Хорошо… О чем шла речь в его кабинете?
— Он давал поручение мужу… Он хотел, чтобы Вальтер поехал сюда, в Швейцарию, и поговорил с кем-то о возможностях мирных переговоров.
— Это все, что вы помните?
— Да.
— А сколько времени продолжался разговор?
— Минут семь.
— Но он не мог за семь минут сказать только две фразы, фрау Рубенау…
— Сначала он сказал, что и девочку бы спас, он ведь отправил моего Пауля в швейцарское посольство… Он сказал, что он бы и нас спас до отъезда Вальтера, он говорил, что в Лозанне живет какой-то Розенцвейг, которого он выручил в тридцать восьмом, когда евреев начали убивать на улицах… Потом он сказал, что лишь выполнял приказы рейхсфюрера и жил с разорванным сердцем и поэтому в свои-то годы стал седым, как старик…