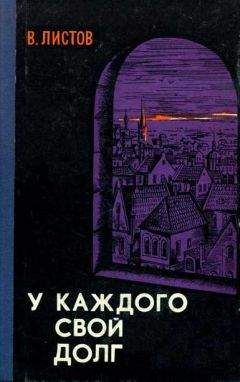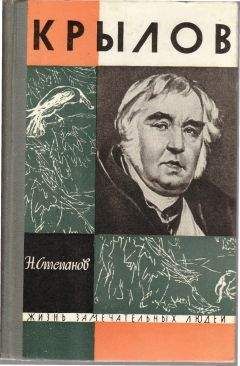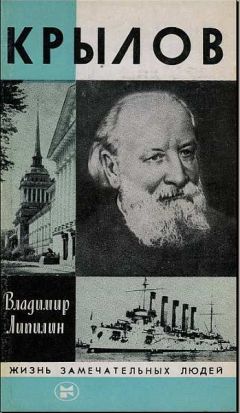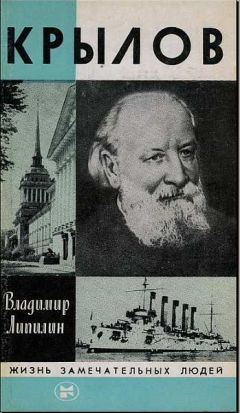Брайан Гарфилд - Миссия выполнима
В одиночной камере он постепенно начал приходить в себя.
Он сидел на кровати, прислонившись спиной к стене и упершись в колени подбородком, обняв свои ноги и уставясь неподвижным взглядом на торчавший напротив водопроводный кран В первый раз его разум шевельнулся с вялой неохотой. Понемногу его мышцы затекли, и он упал лицом на кровать, уткнувшись подбородком в сцепленные руки. В таком положении глазам было темно, и он решил немного подремать, но его сознание уже очнулось от долгой спячки, и он начал размышлять.
До сегодняшнего дня он понимал, что у него есть только два выхода – убийство или освобождение; и то и другое от него не зависело, что бы он об этом ни думал и как бы ни поступал. И он замер в опасном состоянии неопределенного равновесия, которое, сколько бы оно ни продолжалось, должно было закончиться свободой или смертью.
Но теперь он понял, что в своих размышлениях он может пойти и дальше.
Первым делом он подумал о побеге. Он прикинул несколько разных невероятных способов бегства и мысленно поиграл с ними, но потом отказался от всех по одной простой причине: он не был героем кинобоевика, ничего не знал о физической борьбе и не умел выбираться из тюрьмы. Кроме того, ему было неизвестно, что находится за дверью его камеры.
Они кормили его, чтобы он не умер с голоду; они не причиняли ему физического вреда. Во время похищения они сделали все, чтобы оставить его целым и невредимым. Они использовали его, как предмет торговли; значит, он был нужен им живым.
Они не стали бы предпринимать такие усилия, если бы в конце концов собирались его убить. И они не показывали ему свои лица – он особенно цеплялся за эту мысль.
Он раздумывал об этом всю ночь. Иногда он верил, что его отпустят. Иногда ему казалось, что они его используют и потом выбросят, как выжатый лимон, как ненужную сломанную вещь. В такие минуты его прошибал холодный пот.
Потом он стал думать о Джанет и ее неродившемся ребенке, о том, какие последствия все это может оказать на нее. Вернее – на них.
Мысль о ребенке и Джанет вызвала в нем первую вспышку гнева.
До сих пор он смотрел на все случившееся с ним довольно отстраненно, с объективной точки зрения. В каком-то смысле его похищение было продолжением политики – чем-то вроде военной операции. Быть может, гнусной, непростительной, ужасной, но в определенной степени оправданной.
Однако теперь он увидел в этом личную обиду. Они не имели права, подумал он. Этому не может быть никаких оправданий. Обречь беременную женщину и двух детей-подростков на агонию полного неведения…
Из политического дело стало чисто личным, и, как только это произошло, в нем проснулось новое чувство – ненависть.
Он не понимал, почему ему понадобилось так много времени, чтобы начать думать о Джанет и детях. Он вспомнил о них только сейчас, когда прошло уже – сколько? Три дня? Четыре?
Все это время его разум трусливо искал убежища в бессмысленном отчаянии. В его затуманенном мозгу рой мелких испуганных мыслей вращался вокруг его собственной персоны – позиция законченного эгоиста, которую он всегда презирал…
Он должен узнать, кто эти твари. Он должен проникнуть сквозь их бурнусы и поддельные голоса. Он должен искать все, даже самые мелкие улики.
К тому времени когда они его выпустят, он будет знать, кто они такие: он назовет миру их имена.
Он заснул и проснулся, когда они принесли еду: Абдул и Селим. Значит, Абдул вернулся, оставив где-то свой гидроплан.
Он попытался вызвать их на разговор, но ему это не удалось. Молча они забрали его миску и задвинули на двери тяжелый засов.
Оставшуюся часть дня он размышлял о том, как решить поставленные перед собой задачи. Простых решений быть не могло. Потом он заснул и проснулся с мыслью о Джанет.
Еще один обед с бараниной, еще одна ночь при свете лампочки; и его второе утро в камере.
Вошел Селим – белая фигура в просторном балахоне, воплощение спокойной жестокости. Неподвижный взгляд. Глаза, от которых ничего не укроется. Холоден и непроницаем. Человек, с которым не может быть никакого контакта. Селим казался образцом выдержки и самоконтроля, но Фэрли чувствовал в нем что-то дикое и непредсказуемое: подспудный слой ярости и злобы, который в любой момент готов прорваться на поверхность. Больше всего пугало то, что не было никакой надежды предугадать, какая причина может вызвать этот взрыв.
Фэрли изучал его, пытаясь оценить внешность: рост – пять футов и одиннадцать дюймов, вес – примерно сто семьдесят фунтов. Хотя трудно было прикинуть, что скрывается под широким арабским одеянием.
– Я хотел бы сменить одежду.
– Очень сожалею, – ответил Селим с сухой иронией. – Мы еще не закончили пошив.
В двери появился Абдул и встал рядом с Селимом. Как всегда, жует мятную резинку. Фэрли перевел взгляд на него: широкое темное лицо, задумчивый и немного отрешенный вид. Рост – пять и десять, вес – сто девяносто, возраст – лет за тридцать. Волосы тронуты сединой, возможно фальшивой. Желтовато-зеленая шоферская форма покрыта той же мелкой пылью, которая лежала на одежде Фэрли, на его коже и волосах. Частицы песка.
Руки Селима: жесткие, грубые, но не лишенные изящества благодаря длинным пальцам. Ноги? Закрыты длинной одеждой. Так же непроницаемы и его глаза, глубоко посаженные в глазных впадинах, всегда полузакрытые, неопределенного цвета.
– Осталось еще немного, – сказал Селим. – Несколько дней.
Фэрли чувствовал, что Селим смотрит на него пристальным и оценивающим взглядом. Изучает изучающего. Он оценивает меня. Зачем?
– Похоже, вы не боитесь.
– Вам виднее.
– Вы немного рассержены. Это понятно.
– Моя жена ждет ребенка.
– Как это мило с ее стороны.
– Вы сами копаете себе могилу, – сказал Фэрли. – Надеюсь, я смогу присутствовать на ваших похоронах.
Абдул улыбнулся. Селим, как обычно, остался невозмутим. Он сказал:
– Для нас это не важно. На наше место встанут другие. Вы не сможете уничтожить нас всех.
– Пока что мало кто решил пойти по вашим стопам. Вы этого добивались?
– В каком-то смысле да. – Селим пожал плечами. – Фэрли, если бы мы были евреями, а ваш Капитолий – берлинской пивной с Гитлером и его штурмовыми отрядами, то вы бы нас только приветствовали. И возможно, после этого кое-кто из немцев решил бы последовать за нами.
Аргумент был примитивным, как листовка общества Джона Берча; казалось странным, что к нему мог прибегнуть такой искушенный человек, как Селим. Фэрли ответил:
– Есть одно отличие. Люди не на вашей стороне. Они не разделяют ваших идей – их больше устроили бы репрессии, чем революция. Я процитирую вашего героя: «Партизанская война ведет к поражению, если ее политические цели противоречат чаяниям народа». Председатель Мао.
Цитата застала Селима врасплох даже в большей степени, чем Абдула. Он ответил почти с раздражением:
– Вы имеете наглость цитировать мне Мао? Вот вам Мао: «Первый закон войны – защищать себя и уничтожать врага. Политическая власть растет на пушечных стволах. Повстанцы должны просвещать народ в том, что касается ведения партизанских действий. Наша цель – наращивать террор до тех пор, пока ожесточившаяся власть не будет вынуждена наносить ответные удары».
– По-вашему, мир – это подопытный образец для ваших клинических испытаний? Ваша мнимая забота о справедливости смердит трупами. Почему бы вам не быть последовательными и не убить меня? Вы ведь этого хотите?
– Пожалуй, – бесстрастно ответил Селим. – Но боюсь, что теперь у нас нет выбора. Только что сообщили по радио. Ваш друг Брюстер согласился на обмен.
Он попытался скрыть свои чувства:
– Лучше бы он этого не делал.
– Лучше? Только не для вас. Если он вздумает с нами играть, то получит ваше мертвое тело.
– Не сомневаюсь.
Абдул сказал:
– Теперь мяч на вашей стороне.
Когда они ушли, Фэрли снова лег на койку. У них явно были больные головы, у этих самозваных революционеров. Вместо представлений о морали – одни абстрактные догмы, сведенные к двум-трем лозунгам, намалеванным на плакате. Их неистовое стремление к апокалипсису вызывало страх: подобно вьетнамским генералам, ради спасения мира они были готовы его уничтожить.
Большинство из этих людей отличались крайней наивностью; жизнь представлялась им упрощенно: все, что невозможно целиком принять, должно быть целиком отвергнуто. То, что не вызывает симпатии, следует уничтожить.
Но к Селиму это не относилось – он трезво оценивал ситуацию и принимал во внимание каждую деталь. Разумеется, он был психопатом, однако нельзя просто навесить на человека такой ярлык и считать дело законченным; очень многие мировые лидеры были психопатами, но из этого еще не следовало, что достаточно объявить их сумасшедшими и на том успокоиться. Разум Селима работал ясно и продуктивно, и он был очень амбициозным человеком.