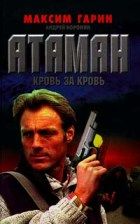Светлана Бестужева-Лада - Вычислить и обезвредить
— Кажется, на это времяпрепровождение ты пожаловаться не можешь! Я старался быть на высоте.
Я непроизвольно сжала руку в кулак так, что ногти больно впились в ладонь. Сама виновата, нечего было затрагивать скользкую тему. Но он старался! Этот сумасшедший, непостижимый для меня мир мужских реалий и ценностей! Он был на высоте… На какой высоте? Кто её измерял? Почему именно поведение в интимной обстановке считается главным, основным критерием?
— Кому, к дьяволу, нужна такая высота? — вырвалось у меня. — Зачем?!
— Я хотел, чтобы тебе было хорошо. Не потому, что ты была мне нужна для каких-то целей.
— Господи, боже ты мой, да неужели ты мог хоть раз в жизни, один-единственный раз, быть… ну, близок с женщиной… я не говорю, «не любя», я не об этом сейчас…. но ради какой-то своей выгоды…
— Не своей выгоды, а государственного долга!
— Какая разница! Использовать женщину ради какого-то мифического долга. Это гнусно, как ты не понимаешь! Купить — и то честнее.
— Ты рассуждаешь, как глупый ребенок.
— Я не ребенок. Я женщина. И я люблю… человека, который готов оттолкнуть меня, прикрываясь понятием долга.
— Ничем я не прикрываюсь! Специфика моей работы…
— Вот-вот, объясни мне специфику. Заодно объясни, что такого сделал Пьер. Ты обошелся с ним, как с каким-то преступником.
Владимир Николаевич со всего размаху стукнул кулаком по столу так, что я подпрыгнула от испуга и замолчала на полуслове.
— Так, довольно! Твой Пьер действительно преступник, если хочешь знать. И имей в виду, что я открываю тебе сейчас государственную тайну. Проговоришься…
— Меня убьют, — хмыкнула я. — Как же, читали, знаем…
— Да кому ты нужна! — отмахнулся Владимир Николаевич. — Если и убьют, то меня. Дошло?
До меня дошло. В том числе и то, что он снова сделал беспроигрышный ход — угроза существовала для него, а не для меня, следовательно, я буду молчать. Естественно!
— Мы предотвратили попытку покушения на очень высокое лицо. Этот Пьер, пусть будет Пьером, хрен с ним, он террорист. Он замышлял покушение!
— А я замышляла ограбление Оружейной палаты. Можешь заодно и его предотвратить. Хорошо, я напишу ему в Брюссель, на адрес его газеты. Пусть он сам объяснит мне, что произошло.
— Это невозможно.
— Я напишу, когда уже буду за границей, не волнуйся. И передам с какой-нибудь оказией.
— Это невозможно, несчастная ты идеалистка! С мертвыми в переписку не вступают.
С мертвыми? Кто умер? Или это меня убьют в тот момент, когда я попытаюсь отправить письмо Пьеру? Ничего не понимаю, бред какой-то…
— Пьер умер. Точнее, погиб. На обратном пути у него случился сердечный приступ. Он умер прямо в самолете.
— Боже мой! — только и могла сказать я.
— Да-да, пожалей его! — окончательно, по-моему, пошел «вразнос» Владимир Николаевич. — Если хочешь знать, он застрелился. В самолете. Из этой своей идиотской как бы авторучки. Не хотел встречаться с теми, кто послал его в Москву убивать…
— Но он никого не убил.
— Прекрати! Он получил то, что заслужил, жаль только, что струсил и просто дезертировал… из жизни. Он — профессиональный убийца. На его руках — кровь нескольких человек. Он убивал…
— Кого? Откуда ты знаешь?
— Он террорист. Был членом французской организации.
— Не уголовник?
— Нет, не уголовник, успокойся. Он — идейный убийца. Убивал за идею.
— А тебе, — услышала я свой голос как бы со стороны, — никогда не приходилось это делать? Убивать за идею? Нет?
— У меня чистые руки, — с некоторым пафосом ответил Владимир Николаевич.
— А я и не говорю, что ты лично брался за нож или спускал курок. Можно ведь и приказать. Сослать, посадить, расстрелять… Лес рубят — щепки летят. Если враг не сдается, его уничтожают…
— Даже если и лично спускал курок… Я, между прочим, воевал. Это для тебя война — далекая история. А для нас она продолжается. Мы, коммунисты…
— Партия прикажет — надо, комсомол ответит — есть, — пробормотала я себе под нос. — Партия — ум, честь и совесть нашей эпохи.
— Майя, уймись! Я не желаю это слышать!
— Должность не позволяет? Или убеждения?
— Моя должность, дорогая, — это итог моих убеждений.
— Или — плата за них? Не смотри на меня бешеными глазами, я уже тебя не боюсь. Мне уже вообще ничего не страшно. Хорошо, возможно, Пьер тот, кем ты его считаешь. Не буду спорить о том, чего не знаю. Но ведь по большому счету вы оба — убийцы. Идейные. Разница только в идее, ради которой вы это делали, вот и все. Бедная Мари…
— Это ещё кто?
— Его невеста. Или возлюбленная, не знаю точно. В общем, его любимая женщина. Но он хотя бы любил! Он мог действительно попытаться сбежать, но предпочел умереть. А ты? Ради какой идеи ты губишь свою собственную жизнь? Про мою даже не заикаюсь.
— С чего это ты решила, что я гублю свою жизнь? Я сам её выстраиваю, не по чьему-то там приказу. И доволен.
— «Я вспоминаю, что, ненужный атом, я не имел от женщины детей и никогда не звал мужчину братом…» — вполголоса произнесла я.
— А эта бредятина откуда?
— Это стихи. Николая Гумилева. Расстрелянного, кстати, большевиками.
— Он был контрреволюционером.
— Возможно. Очень даже может быть… Но за что его сын провел двадцать пять лет в лагерях? За какую идею?
— Знаешь, тебе нужно писать романы. Тут тебе и любовь террориста, и расстрелянный поэт, и разбитое сердце… Послушай, котенок…
Впервые за весь разговор он назвал меня так. Как в той, уже почти прошлой жизни. Или он все-таки…
— Иди ко мне, котенок. Я виноват — должен был сообразить, что для твоей психики все это будет слишком сильной нагрузкой. Неужели ты думаешь, что я способен на подлость? Тем более по отношению к тебе?
Если я ещё была в состоянии парировать его колкости и грубости, то перед его нежностью я оказалась совершенно бессильной. Обаянию этого человека противостоять было невозможно. Особенно — когда его любишь.
— Да если бы я действительно хотел закончить наши с тобой отношения, я бы пришел и просто сказал: «Майя, прости, но больше мы встречаться не сможем. Я тебя не люблю». А я этого не говорил…
— Ты не говорил и о том, что любишь, — прошептала я, уткнувшись в его плечо и чувствуя, как все наши взаимные обиды и недоразумения становятся чем-то незначительным, если не бессмысленным. — Если бы ты хоть раз это сказал… Потом мог бы что угодно делать, как угодно не любить, я бы делам не поверила, потому что слово было, одно слово.
— Котенок, дело в том, что я должен скоро уехать, очень надолго. Только это…
— Тайна, я понимаю. Но почему ты не сказал?
— Я и сейчас не имею права это говорить. Но не могу по-другому убедить тебя, что никто никого не бросает. Обстоятельства… И лучше тебе какое-то время провести подальше отсюда. Без меня тебе здесь будет совсем плохо. Правда?
— Правда, — ответила я почти искренне и уже совсем честно добавила: — без тебя мне будет намного хуже, чем…
Я прикусила язык в последнюю долю секунды. Ибо сдуру чуть не ляпнула такое, чего он мне уж точно никогда в жизни не простил: «Без тебя мне будет ещё хуже, чем с тобой». А я уже примерно догадывалась, какой смысл будет вложен мужчиной в эту хотя и немного витиеватую, но достаточно точную фразу. Да что там догадывалась — точно знала.
Утром он уходил от меня почти спокойным, да и я за эту ночь изрядно повзрослела, если не сказать — поумнела. Во всяком случае у меня хватило присутствия духа, чтобы не делать из нашего прощания трагическую сцену. А поплакать я могла потом, после.
— Мы обязательно встретимся, котенок, обещаю тебе, — сказал он ласково уже у самой двери. — Если останусь жив, конечно. Не грусти, малыш, мы с тобой ещё внуков воспитывать будем.
— Своих? — с неподдельным интересом спросила я.
— Ну, не чужих же.
— Согласна. Только не затягивай процесс, а то у меня ведь и климакс, между прочим, может образоваться со временем. А до внуков было бы неплохо о детях подумать.
— Справимся. До свидания, зверушка моя. Писать не обещаю…
— Но ты приедешь меня проводить?
Он покачал головой и красноречиво пожал плечами. Все было ясно без слов. Яснее некуда…
— Я могу тебя попросить об одной вещи? — спросила я шепотом. — Напоследок.
— Попробуй, — улыбнулся он.
И бросил мимолетный взгляд на часы. Ну что ж… Но я все-таки предприняла героическую попытку надышаться перед смертью.
— Я хочу прочесть тебе одно стихотворение. Только одно.
— Твое?
— Нет. Для моих у нас уже нет времени. Когда-нибудь потом… Так — можно?
Он кивнул. И я прочитала вслух то, что занозой сидело у меня в голове весь последний час:
«Ты меня на рассвете разбудишь,
Провожать необутая выйдешь.
Ты меня никогда не забудешь,
Ты меня никогда не увидишь…
И качнется бессмысленной высью
Пара фраз, залетевших оттуда:
Я тебя никогда не увижу,
Я тебя никогда не забуду…»
Владимир Николаевич ничего не сказал, когда я замолчала. Он просто приподнял мне подбородок и поцеловал. А потом решительно открыл дверь и шагнул за порог. И уже на лестнице, сказал, даже не оборачиваясь ко мне. Сказал куда-то в пространство: