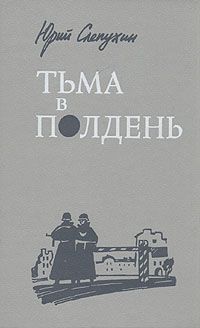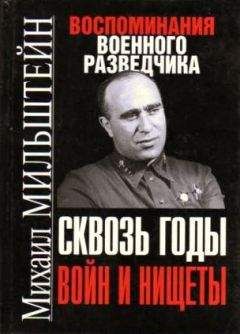Юрий Слепухин - Южный Крест
— Вот и конец нашей экспедиции, — сказал он, передав газету Дуняше. — На, почитай, ты все интересовалась, чем я там занимаюсь…
Дуняша прочитала и фыркнула.
— Я вижу, «очаровательная секретарша» уже переделалась в Астрею? Мало ей было королевского имени, идиотке.
— Да это в газете переврали, вечно путают иностранные имена. Фамилию тоже, на самом деле она Стеенховен.
— Мне-то что! Она действительно очаровательна?
— Не в моем вкусе. И потом, у нее роман с Маду.
— Еще бы, она ведь секретарша. Значит, ты теперь без работы?
— Выходит, так, — согласился Полунин.
— Ну и прекрасно, хватит тебе ездить по всяким джунглям. Ты должен отдохнуть, Мишель, ужасно стал нехорош — один нос торчит, и спишь плохо… Они хоть выплатили тебе индемнизацию [57]?
— Да, я все получил, как положено.
— Вот и не смей никуда ангажироваться. Читай книги, гуляй, походи еще на эту свою выставку — ее скоро закроют…
Разговор происходил за завтраком. Они опять жили по-семейному, — поскольку Дуняша так и не согласилась переехать в квартиру Свенсона, Полунин нашел ей меблированную гарсоньерку неподалеку, на площади Либертад, и почти насильно перевез из пансиона фрау Глокнер. Теперь он обычно ночевал здесь, за исключением тех вечеров, когда ему приходилось сидеть у себя, ожидая звонка из Кордовы.
— Посмотрим, — сказал он неопределенно. — Без работы тоже взбесишься… Да и от чего мне отдыхать? Я уже и так сколько времени без дела околачиваюсь.
— Ты только три недели назад вернулся из Парагвая, а до этого был в Кордове, — возразила Дуняша. — И вообще, ты весь какой-то замученный. Окалачиваться — это от слова «калач»? Прости, но ты на калач нисколько не походишь, скорее уж сухарь.
— При чем тут калач? Это от слова «колотить» — там «о», а не «а».
— Колотить? А это при чем? Кто тебя колотит? Нет, все-таки язык у нас совершенно фантастический, с ума можно свихнуться. Слушай, Мишель, а если тебе съездить поиграть в казино? Говорят, это хорошо встряхивает. Поезжай, правда!
— У тебя, Дуня, идеи — одна другой лучше…
— А что, играл же Достоевский, — Дуняша пожала плечами, допила свой кофе и посмотрела на часы. — О-ля-ля, я опять опаздываю! В одиннадцать у меня свидание с Рикарди… кстати, он, по-моему, хочет предложить мне быть у них штатным дизайнером. Ты как считаешь?
— Что я могу посоветовать? Понятия не имею, Дуня, смотри, как тебе лучше.
— Вот я и не знаю. Конечно, это… как сказать… лестно, такая фирма! Но я ведь буду связана? Не знаю, не знаю. О, я тебе не показывала? Мне вчера прислали новые визитные карточки, по моему рисунку…
Полунин изумленно взял карточку — таких ему еще видеть не приходилось: на бархатно-черном ватмане с неровно обрезанными краями была оттиснута выпуклая золотая корона, под которой — тоже золотым рельефом — сверкали стилизованные под готику буквы «Eudoxie de Novosilzeff». Профессия владелицы — «художественный дизайн» — адрес и номер телефона были напечатаны красным.
— Черная-то она почему?
— А почему ей быть белой? У всех белые, а у меня будет черная, и потом, это ведь точно такая бумага, на которой я рисую. Понимаешь? В этом что-то есть, — глубокомысленно пояснила Дуняша, любуясь карточкой.
— Ты, Евдокия, просто Хлестаков в юбке, — Полунин покачал головой, — на кой тебе шут эта корона? И еще частицу «де» присвоила…
— Что значит «присвоила»? — возмутилась Дуняша. — Милый мой, Новосильцевы ведут свою генеалогию от четырнадцатого века, это тебе не «мадам де Курдюков»… А корона — ну просто орнамент, и потом, аргентинцам такое импонирует. Должна же я думать и о рекламе, не так ли?
— Реклама-то ладно, но ведь ты не урожденная Новосильцева?
Дуняша, уже встав из-за стола, посмотрела на Полунина надменно, сверху вниз.
— Я урожденная Ухтомская, сударь. А князья Ухтомские, если уж на то пошло, — прямые Рюриковичи. Хотя сама я не княжна, у нас боковая ветвь, но все равно — Ухтомская есть Ухтомская. Даже учитывая мою татарскую бабушку, во мне хватит голубой крови на дюжину Новосильцевых!
— Хорошо, хорошо, — сказал Полунин, подавив улыбку, — прости, Авдотья свет Рюриковна, не знал твоей родословной. Ты когда вернешься?
— Это зависит. У меня нынче масса дел, и потом, если Рикарди начнет строить мне куры — это я не от самомнения, куры он Строит всем решительно! — если он, скажем, пригласит меня пообедать…
— Ох, смотри, Евдокия, доиграешься.
— Но боже мой, у меня и в мыслях нет с ним играть, этот Рикарди нужен мне, как кошке аккордеон, — но когда ведешь деловую жизнь… Словом, не знаю! Ну, я побежала, милый, не скучай…
Легко сказать — «не скучай». Последнее время Полунин не знал, чем заняться, чтобы заполнить мучительную пустоту ожидания. Книги валились из рук, он не мог сосредоточиться, постоянно возвращаясь мыслями к одному и тому же. Выставка была изучена до последнего экспоната, да и не очень разумно было бы крутиться там каждый день…
А ждать предстояло еще долго. Два месяца, три, а может, и еще дольше: чем больше успокоится Дитмар (если его и в самом деле предупредили из Парагвая), тем легче будет его взять. Нужно только хорошо организовать наблюдение, а вот с этим дело обстояло неважно. Кривенко аккуратно звонил из Кордовы в условленные дни около полуночи — в это время легче было дозвониться, обычно междугородные линии бывали перегружены, — но ничего интересного не сообщал. Устроиться монтером бывшему адъютанту удалось без труда, но личные контакты с «дедом» пока не налаживались.
Пятнадцатого июля Филипп и Астрид отплыли из Монтевидео на «Конте Бьянкамано», чтобы в Генуе пересесть на французский пароход до Марселя. Дино сообщил, что имеет аргентинскую туристскую визу, действительную до тридцать первого декабря; Филипп должен был получить такую же. Оставалось ждать — и это-то было для Полунина самым трудным…
Он стоял у окна, глядя на залитую зимним солнцем площадь внизу. В просвете между пальмами показалась Дуняша. Дойдя до квадратного бассейна посредине, она оглянулась, подняв голову, помахала ему, послала воздушный поцелуй и, взглянув на часы, пустилась бежать, размахивая сумкой. Полунин смотрел ей вслед, пока она не скрылась за углом улицы Чаркас, потом вздохнул и стал убирать со стола остатки завтрака.
Иногда он ловил себя на мысли, что все было бы куда проще, будь она другой, обычной женщиной. Тогда он хоть знал бы точно, любит ее или не любит. А сейчас он этого не знал. Находясь в отлучке, он иногда не вспоминал о ней неделями, а иногда тосковал страшно, мучительно, до сердцебиения и сухости во рту, как можно тосковать по женщине, с которой был близок и которую помнишь не только сердцем — губами, ладонями, всей кожей. Казалось бы, страстью проще всего было назвать такое отношение — если бы не было в нем ничего другого; но и другое было, была рвущая душу нежность, какую можно испытывать лишь к ребенку, было изумленное любование, с каким можно смотреть на только что раскрывшийся цветок, на алмазный спектр в капле росы под солнцем, на готовую вспорхнуть бабочку.
Да, в его отношении к Дуняше было все, из чего составляется любовь, — и страсть, и нежность, и уважение как к человеку, потому что она была хорошим товарищем, на нее — он знал — можно положиться в трудную минуту. И все же, наверное, это еще не было любовью. Потому что любовь — это что-то такое, без чего уже нельзя, что становится вдруг необходимым, как воздух, как хлеб для голодного, как вода для умирающего от жажды. А может ли стать необходимой бабочка или капля росы? Может ли придать сил любование цветком? Впрочем, японцы считают — может…
Он подошел к ее рабочему столу, перебрал разбросанные рисунки, открыл коробку с новыми визитными карточками, вынул одну и долго рассматривал, морщась от лезущего в глаза сигаретного дыма. Красиво, конечно… на то и художница. И, надо полагать, как реклама задумано совсем неплохо — попробуй такое не заметить. И все-таки нормальный человек до подобного не додумается. Даже как-то зловеще — золото на черном, и еще эти красные буковки внизу… Эх, Дуня, Дуня, ребенка бы тебе самого обыкновенного…
В передней заверещал телефон, Полунин вышел, снял трубку.
— Ола, кто это? — спросил он по-испански, думая, что звонят Дуняше.
— Михаил Сергеевич, здравствуйте, — ответил ему голос Основской. — Наконец-то вы нашлись! Звонила уже два раза к вам на Талькауано, а потом вспомнила, что вы однажды дали мне номер второго телефона, и решила попытать счастья здесь. Я вот почему вас разыскиваю — скажите, вы нынче не заняты?
— Нет, сегодня я совершенно свободен. А что?
— Да дело в том, что я наконец смогла выполнить вашу просьбу относительно Алексея Ивановича…
— Алексея Ивановича? — не поняв, переспросил Полунин.
— Ну да! Это… то лицо, с которым вы просили меня поговорить — ну, помните, месяца полтора назад…
— Ах, вот кто! А я просто не мог сразу сообразить, о ком идет речь… Так вы с ним виделись?