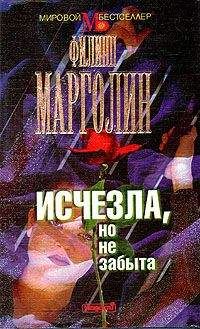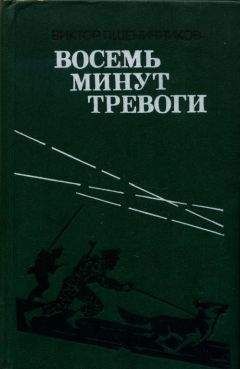Стивен Хантер - Третья пуля
Вот, так лучше. Бедный Лон… Трагическая фигура посреди всего произошедшего. Стыдно было даже смотреть на случившееся — едва ли не стыднее, нежели самому быть виновным во всём. Ему столь многое было дано и всё это так безжалостно отобрано… но он героически перенёс испытание, не пав духом и продолжая делать всё возможное. Тогда-то я и использовал его, официально сделав чудовищем. Прошли годы, но он так и не предал меня, не покинул, не сетовал и не нарушал своей клятвы, пребывая в одиночестве. Тогда я снова использовал этого благородного человека, и в этот раз его убили из-за меня. По крайней мере, он умер так, что и поверить не мог в возможность этого: испытывая восторг от охоты на человека, с винтовкой в руках.
Как бы там ни было, для отчёта: Лон Скотт был моим двоюродным братом по женской линии, наши матери были сёстрами. Семья Данн, давние богатеи — наверное, даже более давние, нежели моя семья. Его мать вышла замуж за человека много богаче себя: Джека Скотта, техасского нефтяника, имевшего фермы в Коннектикуте, охотника на крупного зверя, стрелка-чемпиона, авиатора, военного лётчика-героя (пятьдесят вылетов на В-24, включая кошмар Плоешти)[170] и отца, парализовавшего своего сына.
Лон был прирождённым героем, подтвердив этот статус ещё в юности тем, что в Британской Восточной Африке застрелил раненого льва, бросившегося на них с отцом и ещё одним профессиональным охотником. У него была отменная реакция и, когда зверь прыгнул из зарослей травы с расстояния в пятнадцать ярдов, Лон быстрее двух взрослых всадил в него дуплет Нитроэкспресса.470[171] и был сбит с ног уже мёртвым львом. В характере Лона было никогда не упоминать и не описывать эту историю (хоть он и был прекрасным писателем: возьмите хотя бы его «Африканскую охоту в пятидесятых», насколько мне известно, недавно переизданную), сохранившуюся лишь благодаря тем, кому он сам рассказал. Всё это сделало последовавшую трагедию ещё более ужасной.
Он был рождён для богатства и винтовок. С первым он был скромен, не выставлялся напоказ и не кичился, почитая семью и её истоки. Второе же стало его жизнью — думаю, эту склонность он унаследовал от отца, но был в нём ещё и оружейный гений, не зависящий от класса, расы или экономических обстоятельств, угасающий и пробуждающийся где-то раз в поколение. Полагаю, был такой у великих стрелков Запада — как минимум, у двух третей лихих людей, подобных Клайду Бэрроу[172] или Красавчику Флойду,[173] у нескольких великих законоборцев. Есть такой и у великих снайперов, а также у некоторых знаменитых охотников. У Лона он точно был.
Винтовка стала его жизнью с первого взгляда. В те дни — где-то в начале тридцатых — подобная фиксация не считалась чем-то позорным, а в его кругах воспринималась с одобрением и почётом. Лону ещё и пяти лет не было, когда отец вручил ему первую мелкашку калибра.22, а к десяти годам его стрелковый талант стал легендарным. Лето он постоянно проводил на ранчо в Техасе, где стал чертовски толковым ковбоем, как мне говорили, а к восемнадцати годам — времени поступления в Йель — у него была собрана коллекция рогатых сокровищ вдобавок ко льву, трём носорогам, двум африканским буйволам и дюжине разных антилоп из Восточной Африки, бывшей разгульным и необузданным краем земли, без сомнения воздававшим должное его благородству, стати и смелости многими вечерами на шёлковых простынях в Счастливой долине,[174] где британские набобы в изгнании и их прекрасные, несдержанные женщины собирались, чтобы раскованно курить, пить и изменять.
Его настоящей страстью была стрельба на тысячу ярдов. Первый свой Уимблдонский кубок он завоевал в 50 м. Затем, пропустив год, снова брал его в 52 м и 53 м. Дисциплина эта невероятно требовательна и заставляет участника проявлять все стрелковые качества: не только его способность очень долгое время удерживать постоянное положение, но и умение постичь ветер и искусно снаряжать патроны для достижения максимальной точности — зависящей как от расстояния, так и от стрелка и от условий.
На то время он был почётным выпускником Йеля и невероятно красивым человеком. В определённым кругах считали, что он последует по пути другого великого стрелка, довоенного национального чемпиона по стендовой стрельбе Роберта Стека и попробует себя в кино. Его изящество с оружием в руках — на тот момент непременное дело в американской киноиндустрии — создавало ему неплохие шансы, а высокий интеллект, позволявший с лёгкостью запоминать роли и его моментальная эмпатия, создававшая впечатление харизматичного юноши, сулили великий успех. Он смотрелся лучше Рока Хадсона,[175] при этом не будучи гомосеком и попадал по бегущей за сотню ярдов цели, стреляя с рук, девяносто девять раз из ста. К 55му году Лон уже был знаменит и ждал грядущих больших дел.
Одиннадцатого октября 1955 года, когда Лону было тридцать лет, его отец выстрелил ему в спину, отчего Лон упал и никогда уже не встал.
Характерно то, что Лон не придал этому большого значения. Так случилось, что ж. Так и будем жить. Конечно, со стрельбой на тысячу ярдов было покончено, как и с большинством видов охоты, но он посвятил себя новейшему спорту — бенчрестингу[176] и его полевому варианту, варминт-охоте,[177] проводя значительную часть летнего времени у себя в Вайоминге, истребляя полевых вредителей с расстояния около тысячи ярдов, сидя за стрелковым столом и экспериментируя с различными путями достижения наилучшего результата. Он многому научился — и теперь о стрельбе на дальние расстояния он знал больше, нежели любой другой человек на свете. С отцом он сохранил хорошие отношения: по официальной версии произошёл несчастный случай. Модель 70[178] в калибре 30–06,[179] широко используемое охотничье оружие, выстрелило при падении, хоть и было поставлено на предохранитель. Ничем нельзя было помочь кроме как максимально быстро доставить Лона в реанимацию, что и поспешили сделать стрелки на линии и отец Лона. Ему спасли жизнь, но не подвижность ниже пояса, так что остаток своей жизни он провёл в инвалидном кресле.
Никто из них не говорил об этом, да и что можно было сказать? Всё случилось безо всякого умысла, лишь по трагической случайности, жестокому капризу вселенной. Чья цитата: кого боги уничтожат — вначале вознесут? Может, это я сейчас сочинил, а может, это Водка говорит. Однако же, тут можно углядеть анти-Эдиповскую динамику. Отец, так долго почитаемый великим, узрел узурпатора в молодом сыне. Он любит мальчика, но его эго змеем-искусителем шепчет ему в ухо: «Он заменит тебя. Он затмит память о тебе. Ты дал ему всё, а он заберёт всё у тебя. Ты скоро станешь ненужным». Потому и падает из рук винтовка, потому и предохранитель, возможно, не был доведён до конца, а аккуратно поставлен в «ничейную землю» между положениями, потому вследствие страшной случайности либо злого умысла дуло падающей винтовки было на десятую долю секунды нацелено в низ спины Лона и винтовка выстрелила.
Полагаю, можно считать, что ему повезло. Позвонок S4. Лон не был полностью парализован, так что обошлось без искусственного лёгкого или электрического инвалидного кресла и ему не пришлось писать кисточкой, зажатой во рту. Мускулистый и атлетичный, он хорошо приспособился: водил машину, готовил еду, сохранил разум, мог одеваться, пить, смеяться, читать, смотреть, работать за столом. S4, гораздо милосерднее нежели C2.[180]
И всё же…
Как всё это повлияло на его подсознание? Наверное, он ощущал ненависть под любовью, шёпот обиды среди льющегося восхваления и, возможно, знал своего отца лучше, чем тот сам знал себя, так что скрывал и подавлял свои чувства. Как я и сказал, он справлялся. Кто знает, какие змеи ползали у него в мозгу, почему он стрелял и убивал символических, общепризнанных отцов или сыновей, подобно ему созданных своими отцами и превзошедших их? Никто этого не знает, а я знаю ещё меньше, но это могло бы объяснить — почему Лон не возражал против чудовищных вещей, к которым я его подстрекал и сохранял дух до самого конца. Это факт: он умер, сохранив дух.
В конце октября 1963 года ни о чём этом я и не мыслил. Сказав себе, что у меня к Лону есть вопрос, требующий ответа, я отказал себе в признании неизбежности мною же установленного курса. Я также понимал, что не могу рисковать записываемым звонком из дома или офиса, поскольку никто не знал, прослушивал ли его назойливый подлец Энглтон или нет. Так что я решил надеть костюм и галстук и тронуться субботним полднем в направлении пригорода, припарковаться возле угла Пятнадцатой улицы и N, пройтись по N и непринужденно зайти в дом 1515, офисное здание, чей фасад украшала вывеска «Вашингтон пост», набранная шрифтом, похожим на древнюю готику. В те дни газеты были открыты для общества, особенно если посетитель выглядел как Официальное Лицо вроде меня — тёмный костюм, тёмный галстук, белая рубашка, роговые очки, аккуратная «принстонская» причёска. Я вошёл целеустремлённой походкой, кивнув вечно спящему охраннику-негру и поднявшись на лифте на пятый этаж, где сидели новостники.