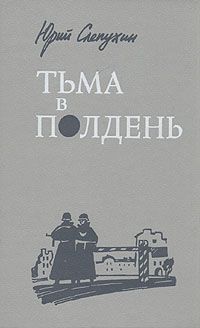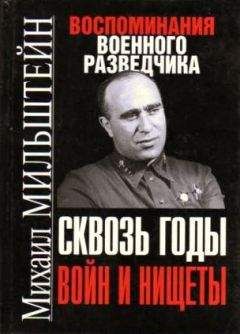Юрий Слепухин - Южный Крест
Он посмотрел на часы и встал.
— Мне пора, Филипп. Так мы обо всем договорились?
— Договорились.
— Ну и прекрасно. Слушай, меня тут просили купить… — Он полистал записную книжку. — Есть такие индейские кружева, называются «ньяндути», не слыхал?
— Понятия не имею. Надо спросить в какой-нибудь галантерейной лавке, они, наверное, знают.
— Поблизости есть?
— Рядом, на улице Пальма, я тебя провожу.
— Не надо, нам лучше не таскаться вместе по улицам. На всякий случай. Ты мне просто объясни, как туда пройти.
— Сейчас свернешь за угол налево, и через три квартала будет Пальма. Она идет прямо к порту. Ну что ж, тогда попрощаемся…
Времени до отлета было еще много. Полунин прошелся по магазинам, купил заказанное Дуняшей кружево, потом долго сидел в зале ожидания гидроаэропорта, глядя, как багровое распухшее солнце опускается в темные заросли за широкой, маслянистой, переливающейся красными отблесками гладью Рио-Парагуай. Было уже темно, когда пассажиров усадили в катер и подвезли к высокому клепаному борту старой, возможно еще военных лет, «каталины». Внутри было душно и едко пахло спирто-касторовой смесью, как будто прорвало гидросистему. Стюардесса с певучим коррентинским выговором, забавно растягивая гласные, подтвердила, что да, была небольшая утечка, но теперь все в порядке, сеньоры могут не беспокоиться, а запах уйдет, как только включат вентиляцию. Стали раскручиваться двигатели, самолет выл и звенел всеми своими переборками, словно дюралевая бочка, которую сверлят двумя огромными дрелями одновременно; Полунин не заметил, как сдвинулись и поплыли назад береговые огни в иллюминаторе, «каталина» начала разгоняться, грохоча и сотрясаясь, будто волокла днище по булыжнику, потом оторвалась от воды и, полого набирая высоту, легла курсом на юг. Когда погасла надпись «No smoking — Prohibido fumar» [55], Полунин вытянул ноги и закурил.
Разговор с Филиппом оставил неприятный осадок, как всегда после бесцельного спора, когда оба остаются при своем мнении. Глупо вышло — не к месту разоткровенничался, ударился в патетику. Филипп, во всяком случае, уж точно воспринял это именно так. Теперь небось посмеивается, вспоминая. В самом деле, кто тянул дурака за язык, насчет Астрид можно было ответить совсем по-другому — настораживает, дескать, вот эта ее богемность поведения И ничего больше. Что ему до остального? Если сам Филипп считает нормальным, что девчонка объявляет себя «бывшей бельгийкой» и предпочитает колесить по свету, это в конце концов его дело. Патриотизм каждый понимает по-своему…
А ведь странно, в сущности. У них с Филиппом старая дружба, солдатская — уж куда надежнее и прочнее; а настоящего, до конца, взаимопонимания все-таки нет. И пожалуй, быть не может. Для этого еще недостаточно провоевать вместе полтора года и одинаково ненавидеть фашистов, — для этого нужно одинаково любить одни и те же песни, помнить одни и те же сказки и — главное — говорить на одном языке, одинаково родном для обоих. Язык — это важно. Это невероятно важно. Можно свободно владеть двумя, тремя чужими языками — и все равно, если ты не можешь пользоваться своим, всегда будет ощущение какой-то своей неполноценности, полунемоты-полукосноязычия. Тогда уж и думать надо научиться не по-русски, так, наверное, проще…
В салоне стало прохладно, включенная вентиляция вытянула резкий запах гидравлической жидкости, но теперь что-то не ладилось с обогревом. Пассажиры доставали из чемоданов шарфы и свитеры. Полунин тоже встал, надел пальто, протер рукавом запотевший плексиглас иллюминатора — снаружи была непроглядная тьма, «Каталина» летела над лесами южного Парагвая.
Его вдруг пробрало ознобом — не столько от холода в тускло освещенном пассажирском салоне, сколько от внезапно представившейся картины этих пространств там внизу, всех этих бескрайних чужих земель, населенных чужими людьми, которых он никогда — даже прожив среди них всю жизнь — не сможет узнать и понять хотя бы приблизительно. И останется таким же чужим и непонятным среди них.
Он достал из портфеля бутылку парагвайской «каньи» — прощальный подарок Филиппа, — отвинтил пробку и отхлебнул из горлышка. Огненная жидкость обожгла рот и стала разливаться по телу приятным теплом. Нет, Филипп все-таки друг, хотя и с оговорками. Ну, и Дино. А еще кто? А больше никого, хоть шаром покати. Евдокия не в счет, это другое. Друзей же — настоящих, из соотечественников — друзей-мужчин нет. Хотя он здесь уже восемь лет, пора бы и обзавестись. Ладно, проживем… Он еще раз приложился к бутылке, аккуратно завинтил и сунул в карман. Может быть, Дуня все же согласится приехать? Самолет прилетает около полуночи, еще не поздно — если он позвонит сразу из порта… «Их» квартирки на Сармьенто уже не было, подруга вернулась из Европы раньше, чем думали, и Дуне пришлось снова перебраться к своей фрау Глокнер. Туда ему, конечно, и думать нечего; но представить только, какой сейчас холод у него в комнате…
Да, друзьями в русской колонии не разживешься. Странно — все более или менее знакомы между собой, всюду одни и те же примелькавшиеся лица, а ведь никто ни о ком толком ничего не знает. Перемещенные лица — народ осторожный, кем только не пуганный и не ловленный, откровенничать в этой среде не принято. Ничего не рассказывать о себе и никогда не пытаться выяснить чужую биографию — это уже стало принятой нормой поведения, правилом хорошего тона. Последнее время Полунин вообще мало с кем общался, но в первые два года после приезда — тогда еще не было ни одного клуба и местом еженедельных встреч служила для всех старая посольская церковь на улице Брасиль — он каждое воскресенье проводил время в компании холостяков, своего возраста или несколько моложе. Заваливались в ресторанчик попроще, сдвигали вместе два-три столика, брали несколько бутылок приторного муската — он до сих пор не мог вспоминать его вкус без отвращения — и начинался беспредметный треп. Травили анекдоты, обсуждали знакомых женщин, говорили о работе — тот устроился хорошо, а тому не везет, меняет уже третье место, и все что-то не то. Подвыпив, начинали петь хором, тут уж все шло вперемежку — «Землянка» и «Хороша страна Болгария», «Эрика» и «Лили Марлен». Настораживало то, что многие так хорошо знают немецкие строевые песни, но опять же — мало ли кто их пел в те годы, могли и в лагерях подцепить…
Это уже потом пришло ему как-то в голову, что, встречаясь еженедельно, он ничего не знает ни о ком из своих собутыльников. Был там один высокий молчаливый парень со странной привычкой — кивать в знак отрицания и, наоборот, покачивать головой, отвечая «да». Говорил, что он из Болгарии, и, действительно, в Аргентину приехал со своими довольно богатыми родичами — дядька, из деникинских офицеров, был в Софии представителем какой-то американской фирмы. Потом случайно выяснилось, что насчет дядьки все верно, племянник же — одессит чистой воды и до сорок третьего года никуда дальше Больших фонтанов оттуда не выезжал…
Таких загадочных типов среди перемещенных было пруд пруди. Одно время околачивался в той же компании некто со странной фамилией Ивановас — из Каунаса якобы, сын русской и литовца. Этого разоблачили на вечере в Литовском клубе — оказалось, что он не только не знает языка, но и не может припомнить ни одной каунасской улицы. «А чего, меня пацаном оттуда увезли», — буркнул он в свое оправдание. Над ним потом все смеялись: «Задница ты, Ивановас, родной город тоже надо с умом выбирать… »
Позднее Полунин сам удивлялся, чем могла привлекать его в то время подобная компания. Скорее всего, просто тем, что это были соотечественники и с ними можно было хоть раз в неделю поговорить по-русски. После трех лет во французских казармах Буэнос-Айрес с его русской колонией показался ему чуть ли не уголком родины…
Транспорты из Европы прибывали тогда почти каждый месяц, колония росла как на дрожжах, была освящена еще одна православная церковь — на Облигадо; перемещенные перекочевали туда, не успевшие найти квартиру даже жили там некоторое время, разбив палатки в углу двора. Открылся первый клуб, начала выходить первая еженедельная газета на русском языке — ее издавали католики «восточного обряда», прибывшие в Аргентину со своим пастырем, французским иезуитом отцом де Режи. И вся эта многотысячная масса людей одной национальности оставалась раздробленной, разобщенной, поделенной на множество мелочно враждующих между собой групп и группировок. Мышиная грызня происходила внутри каждого слоя, а сами слои вообще не смешивались, хотя и соприкасались, — как масло и вода, слитые вместе. Перемещенные советские граждане вперемежку со старыми эмигрантами из Европы — один слой, местные старожилы-белоэмигранты — другой, украинцы и белорусы из Польши — третий; старожилы делились в свою очередь на «красных» и «непримиримых», — те и другие к новой эмиграции относились одинаково враждебно, считая ее кто сплошь власовцами, кто сплошь советскими шпионами…