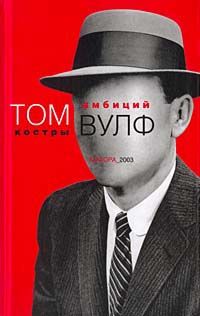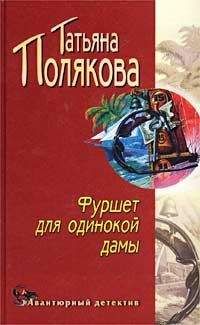Том Вулф - Костры амбиций
— Вы же знаете Вейсса, — говорит Крамер. — У него одно на уме: что он — еврей и должен переизбираться в округе, где население на семьдесят процентов — негры и пуэрториканцы.
— У вас имели когда-нибудь дело с этим Бэконом? — спрашивает Гольдберг.
— Нет.
— Лучше сними часы, перед тем как зайти в помещение. Этот хрен собачий — паразит и вор.
— Я об этом и думаю, Дейви, — говорит Мартин. — Где тут денежный интерес? Непонятно. Но что в основе — корысть, это как пить дать. — И спрашивает у Крамера:
— Не приходилось слышать про Коалицию по трудоустройству «Открытые двери»?
— А как же.
— Тоже Бэкона затея. Заявляются в рестораны и требуют рабочие места для меньшинств. Посмотрел бы ты, какую хренову свалку они устроили на Ган-Хиллроуд. Там в долбаном ресторане и так ни одной белой рожи. Непонятно, о каких меньшинствах они хлопочут, разве что о своих амбалах с обрезками железной трубы в руке, тоже меньшинство, так сказать.
Крамер не уверен, можно ли считать слово «амбалы» расистским термином. Но все-таки до такой степени уподобиться ирландцу он не решается.
— Ну и где тут у них корысть?
— Как где? Для них это деньги. Если бы директор сказал: «Да-да, пожалуйста, нам как раз нужны работники, можем взять вас», они на него посмотрят, как на сумасшедшего. Им только нужно, чтобы им платили. И то же самое — «Антидиффамационная лига Третьего мира». Эта шайка собирается на Бродвее и по разным поводам подымает страшный крик. Тоже Бэкон ими заправляет. Такой душка.
— Но эта Коалиция по трудоустройству «Открытые двери», у них же до драк дело доходит, — говорит Крамер.
— Да хрен же доходит. Одно кино, — бурчит Гольдберг.
— Если это притворство, то непонятно зачем. Ведь их убить могут.
— Надо их видеть, чтоб понять, — пожимает плечами Мартин. — Эти сдвинутые выродки готовы за так устраивать с утра до ночи драки и поножовщину. А уж если им кто отвалит за это доллар-другой, и подавно.
— Помнишь того, что с трубой на тебя набросился, Марти?
— Еще бы не помнить. Он мне, сволочь, по ночам снится. Здоровенный такой верзила, и золотая серьга из уха свисает вот так. — Он складывает кольцо из большого и указательного пальцев и приставляет к правой мочке.
Насколько всему этому верить, Крамер толком не знает. Он когда-то читал одну статью в «Голосе Гринич-Виллидж», где Бэкон подавался как «уличный социалист», негритянский народный политик, который своим умом дошел до разоблачения оков капитализма и сам сообразил, как действовать, чтобы добиться прав для черных. Вообще Крамер левым движением не увлекался. И его отец тоже. Однако в родительском доме, где Ларри рос, слово «социалист» имело религиозные обертоны — как «Масада» или «3елот». В этом понятии было что-то еврейское. Пусть социалист совсем заврался, пусть он жесток и мстителен, все равно где-то в нем есть искра божьего света, отблеск Яхве. Может быть, то, чем занимается Бэкон, — обман и вымогательство. А может быть, и нет. В каком-то смысле все рабочее движение с самого начала — одно сплошное вымогательство. Что такое забастовка, как не вымогательство под высказанной или молчаливой угрозой насилия? В доме Крамеров к рабочему движению отношение было тоже слегка религиозное. Профсоюзы были вроде восстания зелотов против злодейской силы гоев. Крамер-отец, капиталист в душе и типичный прислужник капиталистов в реальной жизни, никогда не состоял ни в одном профсоюзе и на членов профсоюзов смотрел исключительно сверху вниз. Тем не менее, когда однажды по телевидению выступил сенатор Барри Голдуотер, отстаивая законопроект о праве на работу, папаша Крамер рычал и чертыхался так, что рядом с ним Джо Хилл и Индустриальные Рабочие Мира показались бы членами согласительной комиссии. Да, рабочее движение — это религия, как и сам иудаизм. В него веруют в применении к человечеству и не вспоминают в личной жизни. Странная это вещь, религия. Отец драпировался в нее, как в плащ… И этот тип Бэкон тоже драпируется в религию… И Герберт 92-Икс… Герберт… Крамеру вдруг представился повод похвалиться своим триумфом.
— С этой религиозной публикой такая морока, — говорит он, обращаясь к спинам двух полицейских на передних сиденьях. — Я вот только что провел дело одного парня, его — представляете? — зовут Герберт 92-Икс… — Он не говорит: «Я только что выиграл дело». Это можно будет ввернуть чуть погодя. — Так он…
Мартину и Гольдбергу, может быть, конечно, наплевать. Но, по крайней мере, они понимают, о чем речь…
И всю дорогу до Гарлема он занимал их оживленным рассказом.
В баронской приемной Преподобного Бэкона, куда секретарша ввела Крамера, Мартина и Гольдберга, не было ни души. И прежде всего блистал своим отсутствием сам Преподобный Бэкон. Вращающееся кресло, что высилось позади стола, торжественно пустовало.
Секретарша усадила их в кресла у стола и вышла. Крамер посмотрел в окно на мрачные голые стволы деревьев в гнилостных желто-зеленых плешах. Потом задрал голову и стал разглядывать своды, и вычурную лепнину потолков, и прочие архитектурные излишества, неотъемлемые черты миллионерского обиталища восьмидесятилетней давности. Мартин и Гольдберг были заняты тем же. Мартин переглядывался с напарником, чуть вздернув угол рта, что явно означало «Ничего себе халупка!».
Но вот растворились двери, и вошел высокий чернокожий господин в дорогом черном костюме особого покроя, подчеркивающего ширину плеч и тонкость талии. Пиджак застегивался на две пуговицы, и в глубоком вырезе открывалась роскошная белая крахмальная манишка. Жесткий белый воротничок на черной шее слепил глаза. А галстук был в черную косую клеточку — когда-то такой носил Анвар Садат. От одного взгляда на вошедшего Крамер ощутил себя помятым и затрапезным.
Он колебался, встать ему навстречу или нет, прекрасно понимая, как расценят его почтительность Мартин и Гольдберг. Но выхода не было. Он встал. Мартин немного выждал и тоже поднялся, а за ним и Гольдберг. При этом они переглянулись и оба одинаково скривили рты. Поскольку первым, кто встал, был Крамер, хозяин дома подошел сначала к нему, протянул руку и произнес:
— Реджинальд Бэкон.
Крамер руку пожал и отрекомендовался:
— Лоренс Крамер, Окружная прокуратура Бронкса. Следователь Мартин. И следователь Гольдберг.
Мартин поглядел на руку Бэкона глазами умного добермана, так что поначалу было непонятно, собирается ли он взяться за нее рукой или же вцепиться зубами. Но в конце концов взял и стал трясти. Тряс чуть не полсекунды, словно дотронулся до липкого креозота. Также поступил и Гольдберг.
— Позвольте предложить вам кофе, джентльмены?
— Нет, спасибо, — ответил Крамер.
А Мартин устремил на Преподобного Бэкона ледяной взгляд и дважды очень-очень медленно покачал из стороны в сторону головой, так же недвусмысленно, как будто сказал словами: «Нет уж, скорее от жажды подохну». И Гольдберг, еврейский ирландец, последовал его примеру.
Преподобный Бэкон, обойдя письменный стол, уселся в свое высокое кресло. Сели и они. Он откинулся на спинку, задержал на Крамере бесстрастный взор, а потом тихим, мягким голосом осведомился:
— Окружной прокурор объяснил вам, что случилось у миссис Лэмб?
— Да, мой начальник отдела объяснил.
— Начальник отдела?
— Фицгиббон. Начальник Отдела убийств.
— Значит, вы из Отдела убийств?
— Когда сообщается, что пострадавший в уличном происшествии может не выжить, дело для начала регистрируется как убийство. Не всегда, но по большей части.
— Миссис Лэмб лучше не говорить, что несчастье с ее сыном рассматривается как убийство.
— Я понимаю, — кивает Крамер.
— Буду вам признателен.
— А где же миссис Лэмб?
— Здесь. Сейчас придет. Но я хочу перед тем, как она появится, вам кое-что сказать. Она очень переживает. Ее сын при смерти, она это знает и одновременно не знает… Да… Она это и знает и одновременно знать не хочет. Вы меня понимаете? И в то же самое время у нее неприятности из-за каких-то штрафных талонов. Она говорит себе: «Я должна быть рядом с сыном, но что, если из-за каких-то ихних штрафных талонов меня арестуют?»… Да.
— Но из-за ихних талонов она пусть не переживает, — говорит Крамер, пользуясь той же манерой выражаться. Он не может и не хочет отличаться речью от собеседников:
— Окружной прокурор отменил ордер. Штрафы надо будет заплатить, но арест ей теперь не угрожает.
— Я говорил это, но вы лучше ей сами скажите.
— Да, конечно, но вообще-то мы здесь, чтобы услышать, что скажет она.
Это — для Мартина и Гольдберга, чтобы не сочли, что он переметнулся.
Преподобный Бэкон помолчал, глядя на Крамера, а затем снова заговорил тихим голосом:
— Это правда. У нее есть что вам сказать. Но я сначала расскажу вам об ихней судьбе, о ней и ее сыне Генри. Генри — прекрасный юноша… то есть был прекрасным юношей. Господи, какая трагедия! Прекрасный юноша, лучше не найти, да… Посещает церковь, не замешан ни в каких дурных делах, кончает среднюю школу, собирается в колледж… Достойный молодой человек. И он уже окончил одну очень трудную школу, потруднее Гарвардского университета, школу жизни в муниципальной новостройке. Он ихнюю школу прошел и сумел выйти достойным молодом человеком. Генри Лэмб — наша надежда! Вернее, был нашей надеждой. Да… Надеждой! И вдруг кто-то, какой-то проезжий, р-раз! — он громко шлепнул ладонью по столу, — переехал его и даже не остановился!