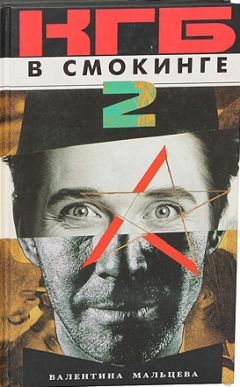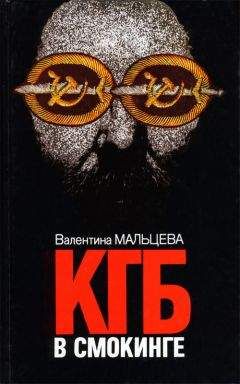Йосеф Шагал - Ностальгия по чужбине. Книга первая
— Только без лекций о внутреннем положении, пожалуйста, — поморщился Горбачев. — Сегодня куда ни плюнь — везде эксперты. Только вот работать некому!.. Что вы конкретно предлагаете?
— Пока не началась стрельба, ввести в Степанакерте и других городах НКАО военное положение. Запретить демонстрации. Вывести с этой территории армейские склады с оружием — в любую минуту на них может быть совершено нападения, а сил защищать их у нас там явно недостаточно. Я имею в виду, надежных сил… Полностью блокировать Нагорный Карабах как от Азербайджана, так и от Армении, локализовать этот регион и постараться выиграть время. Если мы сумеем не дать вспыхнуть столкновениям на межэтнической почве, шансов найти политическое решение кризиса станет больше…
— Хорошо, — кивнул Горбачев. — Мы обсудим это предложение на Политбюро…
«В постели со своей ненаглядной ты его обсудишь», — подумал Воронцов.
В этот момент зазвенел телефон. Горбачев матерно выругался и схватил трубку.
— Я же сказал!.. Кто?… А… Ну, соедини…
В соответствии с кремлевским этикетом, первый зампред КГБ тут же уставился рассеянным взглядом в полузашторенное окно, всем видом демонстрируя, что ему совершенно неинтересен телефонный разговор первого лица партии и государства. Тем более, что Воронцову хватило двух горбачевских фраз, чтобы понять: звонит Шеварднадзе. Шеф МИДа второй день находился в служебной командировке в Восточном Берлине, где вел очень тяжелые переговоры с Хонеккером. Стенограмму этих переговоров Воронцову положили на стол еще вчера, поздней ночью. Вопрос воссоединения Восточной и Западной Германии решался стремительно, в духе провозглашенного перестройкой нового внешнеполитического курса.
— Как-то странно все получается… — Горбачев положил трубку. На породистом лице генерального секретаря ЦК КПСС отражалось так не свойственное Горбачеву выражение растерянности. — Я чувствую себя в полной безопасности, стоит только мне пересечь государственную границу. Там меня окружают радушие, дружелюбие, искреннее желание понять суть вопросов, понять логику нашего реформирования. А у себя дома… — Горбачев поправил очки указательным пальцем. — Такое ощущение, что на Западе куда больше понимают суть моих реформ, чем в собственной стране…
— Такова печальная судьба всех реформаторов на Руси, — Воронцов с колоссальным трудом выдавил из себя улыбку. — Любые новшества, как правило, опережают коллективное сознание масс и воспринимаются ими в штыки…
— Но ведь в конечном счете народ их принимал! — воскликнул Горбачев. — Причем, реформы куда более радикальные, чем нынешние. Возьми того же Петра, или Екатерину…
— Вы не монарх, Михал Сергеич, — негромко возразил Воронцов. — В вашем распоряжении другие институты власти, другие методы осуществления реформ…
— Хрущев тоже не был монархом, — отмахнулся Горбачев. — Но ХХ съезд, как видишь, провел. И культ личности Сталина, несмотря на яростное сопротивление наших сталинистов, развенчал!..
— Хрущев понимал взаимозависимость и хронологию проведения демократических реформ и функционирование институтов сдерживания, — тщательно подбирая слова, ответил Воронцов. — Идею проведения XX съезда Хрущев начал реализовывать только после того, как убедился, что армия, КГБ и МВД не только целиком на его стороне, но и полностью контролирует положение в государстве. Не мне вам говорить, Михал Сергеич, что в те годы на учете находился каждый исчезнувший ствол, каждое имя инакомыслящего… Это и есть разумный плацдарм для начала политических и экономических реформ. Кстати, наступлению демократии в США тоже ведь предшествовала длинная цепь исторических событий, в которых решающую роль сыграли силовые структуры — от войны между Севером и Югом до полного развязывания рук ФБР во времена Маккарти…
— Хрущев, значит, понимал… — родимое пятно генсека налилось кровью. — А я, стало быть, не понимаю?..
— Но вы же сами признаете, что осуществление ваших реформ наталкивается на сопротивление масс. И мы — я имею в виду КГБ, милицию и даже армию — практически бессильны как-то влиять на этот процесс… Народ чересчур стремительно погрузился в атмосферу вседозволенности, Михал Сергеич. И сегодня мы только начинаем пожинать плоды…
— Что плохого в идее демократизации общества, в его открытости? — привстав, Горбачев смотрел на первого зампреда КГБ с нескрываемой ненавистью. — Советские люди не должны ничего бояться, не должны дрожать в страхе перед карающей рукой госбезопасности!.. Сталинские времена не вернутся, как ты этого не понимаешь, генерал?! Никогда не вернутся!..
В кабинете генерального секретаря ЦК КПСС воцарилась зловещая пауза. Воронцов побледнел, словно только что получил публичную пощечину. Он вытащил из кармана брюк носовой платок, медленно оттер лоб, на котором выступили частые бисеринки пота, и, глубоко вздохнув, негромко произнес:
— Я потомственный интеллигент, Михаил Сергеевич. Из семьи московских учителей. И в КГБ пришел не по путевке комсомола, а из дипломатической Академии, которую закончил с красным дипломом. Мои деды по отцовской и материнской линии были расстреляны за правый уклон еще в конце тридцатых годов. Мой отец погиб при взятии Кенисберга, командуя мотострелковым полком. Кроме того, в шестьдесят девятом году я защитил на кафедре международного права МГИМО докторскую диссертацию о правовых аспектах западных демократий. Следовательно, мне, профессору юриспруденции, доктору наук, в течение двадцати лет возглавляющему советскую внешнюю разведку, нет необходимости объяснять историческую и нравственную невозможность возврата к временам сталинских репрессий, к временам антинародного террора и тотального недоверия в обществе… Тем не менее, я убежден в том, что любая модель политического, экономического и социального реформирования должна опираться на четкую правовую основу, на сознательность и политическую культуру масс и высокий профессиональный, нравственный авторитет правоохранительных органов. А то, что происходит сейчас… Согласитесь, Михаил Сергеевич, есть существенная разница между организацией коммунистического субботника и беспределом Ходынского поля. Хотя и то, и другое считают проявлением патриотизма…
— А ведь ты меня не любишь, генерал Воронцов? — Горбачев смотрел исподолобья, набычившись.
Воронцов молчал.
— Я ведь не похож на твоего кумира, верно? — продолжал допытываться Горбачев. — Андропов был умнее, да? Так почему же ты приходишь в этот кабинет, генерал?
— Я на службе, товарищ Горбачев, — сухо отчеканил Воронцов. — Я кадровый работник КГБ в звании генерал-полковника и давал присягу Отчизне…
— Это не проблема! — почти шепотом произнес Горбачев. — Я тебя освобожу от этой присяги!
— Освободить можно от должности, товарищ Горбачев, — спокойно ответил Воронцов и встал. — А от воинской присяги освобождают только две вещи — собственная совесть или смерть. Честь имею, товарищ генеральный секретарь ЦК КПСС! — и развернувшись через левое плечо Воронцов строевым шагом покинул главный кабинет разваливающейся страны…
* * *«Если у тебя скверно на душе — не выясняй ни с кем причину. А уж тем более, с самим собой. Просто постарайся как можно быстрее заснуть…» В течение трех недель, которые Мишин под неусыпным контролем провел на базе ПГУ, слова матери, ушедшей из жизни очень рано, когда он только закончил школу, напоминали о себе буквально каждую секунду, торкаясь изнутри подобно некормленным птенцам в осиротевшем гнезде. И чем меньше ему давали спать — этот срок его надзиратели последовательно сократили с семи до пяти часов в сутки — тем болезненнее он ощущал потребность забыться, чем-то оглушить себя, лишь бы только не думать…
С Ингрид ему дали поговорить только раз — спустя четыре дня после того, как его доставили на базу. Телефонный разговор был коротким, минуты полторы, но и этого времени оказалось достаточно, чтобы Мишин понял две вещи: Ингрид действительно находилась в руках советской разведки и условия, в которых ее содержали, были вполне приемлемыми. Главный же вопрос: как сложится судьба его жены и ребенка после того, как он выполнит для КГБ требуемую работу и навсегда исчезнет, по-прежнему оставался открытым. Ставя себя на место своих прежних начальников, Витяня не мог не отдать должное их прозорливости и уму: лучшего способа добиться полной покорности от беглого подполковника КГБ они придумать просто не могли. Потому, собственно, приставленные к нему три оперативника особенно не надрывались: деваться Мишину было некуда. Как лаконично выразился генерал Карпеня, «шаг влево, шаг вправо — и ты останешься без жены и ребенка»…
Чтобы хоть как-то отвлечься от тягостных дум, Мишин с головой окунулся в изнурительную программу «переподготовки», наверняка составленную рукой опытного и ущербного садиста от разведки. Его поднимали в пять утра и, несмотря на пятнадцатиградусный мороз, в трусах и майке, без завтрака, он должен был пробежать десять километров по пересеченной местности. Сразу же после финиша, его заставляли надевать двадцатикилограммовый свинцовый пояс, с которым он должен был пробежать еще пять километров. После завтрака, с семи утра до полудня Мишин работал со штангой и двухпудовыми гирями в гимнастическом зале. Затем, после двадцатиминутного перерыва на обед, конвоиры отвозили его на стрельбище, представлявшее собой огороженный колючей проволокой огромный участок поля в несколько десятков гектаров и утыканный всеми возможными видами мишеней — открытых, замаскированных, движущихся, возникающих внезапно… Стрелять он должен был практически из всех видов оружия и мыслимых положений — в ходе коротких перебежек, из укрытия, стоя, из окна «газика», ритмично перекатываясь в сугробах по несколько метров… На дневной сон ему отводилось ровно сорок минут. Потом, когда уже начинало смеркаться, его вновь отвозили на полигон, где начинались ночные стрельбы из автоматической винтовки с прибором ночного видения. С каждым днем задача стремительно усложнялась. Если в самом начале Мишин стрелял по статичным полутораметровым мишеням на расстоянии 700–800 метров, то к исходу третьей недели он на слух поражал фосфоресцирующие тарелочки диаметром чуть больше обычного спичечного коробка, которые запускал в воздух с помощью ручной катапульты для стендовой стрельбы один из трех его надсмотрщиков…