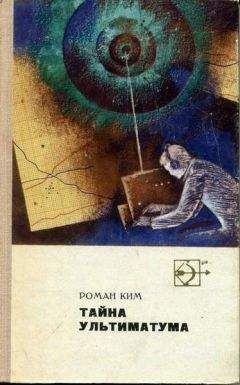Юлиан Семенов - Бриллианты для диктатуры пролетариата
— Я сижу в тюрьме из-за произвола, творимого нечестными людьми!
— Будем считать, что наш разговор не получился, Никандров. Я имею вам выразить мое сострадание…
— Почему все так жестоки?! Господи? Почему?!
— Я жесток? Я, положивший столько труда, чтобы договориться о вашем освобождении?! Вас обвиняли в шпионаже! В пользу красных! Я опровергал это сколько мог! А теперь я убедился, что был безмозглым ослом! Если вы не можете рассказывать мне, о чем говорит чекистский агент, большевик, если вы отказываетесь помочь нашей борьбе с теми, кого вы раньше клеймили душителями прогресса и разума, а здесь берете под свою защиту, — мне все ясно стало, Никандров. Вы — кремлевский наймит!
— Вы же сами не верите тому, что говорите.
— А если верю? — спросил Неуманн. — Тогда что?
По субботам Неуманн уезжал на свою маленькую мызу, он купил ее в излучине речушки Пэрэл. Стоила мыза дешево: в первые дни после октябрьского переворота немцы, жившие в Эстонии, продавали недвижимость за бесценок.
Домик был сделан на прусский манер: стены оклеены полосатыми обоями, кухонька выкрашена густой масляной краской и даже подоконники обернуты цветными клееночками.
Неуманн привез туда свою жену и старшую дочь; им дом понравился, и они умоляли его ничего здесь не переделывать.
— Тут чисто и уютненько, — говорила жена, фру Элза. — Умерь свои неуемные фантазии, Артур.
— Мои милые прелестницы, — ответил Неуманн. — Я старый подкаблучник, но поверьте — я сделаю все так, что вам здесь понравится еще больше.
— Па, но ты же обещал купить мне мерлушку…
— Я куплю мерлушку, моя злюка… Я здесь буду все делать сам. Кто я — внук лесничего или белоручка?!
— Артур, но твои фантазии, — сказала фру Элза, — не должны отражаться на бюджете семьи!
— Хорошо, любовь моя! Ни одной марки из нашего бюджета не пойдет на реконструкцию. Я сокращу курение и летом не поеду в Пярну.
С тех пор вот уже пять лет Неуманн занимался перестройкой этой мызы. Свой первый отпуск он потратил на то, чтобы ободрать обои, снять линолеум, обить штукатурку в зале. Неуманн старался все делать сам — только изредка к нему приходил рыбак Лахме, и они сидели при керосиновой лампе, играли в подкидного дурака и обсуждали, где достать хорошую сосну и как по-настоящему заморить дубовые балки, чтобы потом пустить их по потолку на веранде.
Сейчас мыза была почти готова. Неуманн ничего не стал делать снаружи: домик казался по-прежнему стареньким и покосившимся. Но внутри все изменилось: на веранде он сам сложил камин из валунов, привезенных с моря; на кухне теперь были прокопченные черные балки и ярко-желтые доски, проолифленные трижды. Это великолепно гармонировало со старинными медными кастрюлями и сковородками, развешанными на печке, сложенной из грубого кирпича.
Неуманн приезжал сюда каждую субботу, устранял недоделки, которые были не заметны никому иному, кроме его самого, а белые ночи проводил на реке — ловил форель. Здесь не было хуторов, и он чувствовал себя один на один с природой в этом громадном, тихом, замшелом сосновом бору.
Здесь ему было спокойно и радостно: отходили все будничные заботы. Неуманн понял совершенно ясно, что шеф политической полиции никогда не станет государственным деятелем — министром или парламентарием. Дорвавшись до этого поста, он поначалу был в упоении и лишь по прошествии лет начал отдавать себе отчет в главной ошибке — какие-то посты в служебной лестнице, если всерьез думаешь о карьере, стоит «перескакивать». Поняв, что его «прочность» в полиции сыграла с ним дурную шутку, отрезав путь к высокой политике, Неуманн решил навечно остаться «первым инквизитором». Это возможно было лишь в том случае, если работа его будет четкой, незаметной, быстрой, но не суетливой и обязательно тихой — без скандалов и газетной шумихи. Поэтому, отладив работу аппарата, «заземлив» его, наперекор своим первоначальным планам, Неуманн добился определенной стабильности во всех звеньях своего ведомства, и беспокоиться ему практически было нечего — он полагался на своих помощников, а те дела, которые решал вести сам, должны были быть хоть в какой-то мере с изюминкой. Тут и ошибка простится, и успех будет заметен.
…Солнце по ночам не сходило с небосвода; только в полночь лучи его делались бесцветными, невесомыми, а оттого размыто-нежными, легкими, земными.
Неуманн научился подкрадываться к бочажинам. Он видел, как, замерев, стояли на самой поверхности громадные рыбы — недвижные и литые, как и вода. Он мог подолгу любоваться этими замершими рыбами и ничуть не огорчался, если форель вдруг исчезала, оставляя после себя медленные круги.
А когда ему удавалось забросить крючок с двумя нанизанными на него червями прямо перед носом форели и та мгновенно заглатывала наживу, Неуманн вытаскивал тяжелую рыбу, ощущая грань легкости и тяжести ее в воде и воздухе, и долго любовался форелью, а потом, завернув ее в лопух, складывал в рюкзачок и шел дальше — к порогам.
Возле порогов он разводил костер и, натаскав сухих еловых лап, ложился спать до утреннего жора.
Но в это утро он просыпался нехотя — ему снилось, что кто-то теребит его за плечо, и ему не хотелось открывать глаза, а когда он все-таки глаза открыл, то увидел двух людей, сидевших возле него на корточках, и страшное предчувствие беды охватило его.
— Сядьте, — сказал Роман, — у меня к вам дело.
— А что, собственно, случилось? — спросил Неуманн и удивился своему голосу. — Кто вы, господа?
— Сядьте! — повторил Роман. — И слушайте внимательно. Вы согласны помочь Исаеву?
— Как я могу это сделать?
— Это мы скажем — как… Сначала ответьте: вы согласны?
— Я никогда не преступал служебного долга.
— Если вы откажетесь помочь, Исаеву может грозить смерть. У нас нет иной возможности спасти друга. Поэтому ваш отказ помочь будет равнозначен двум смертным приговорам: Исаеву — в тюрьме, вам — здесь!
— Вы с ума сошли! Я представитель закона!
— Я повторять два раза не намерен, Неуманн, — сказал Роман и посмотрел на Юха. Тот, видимо, понял его, потому что рывком поднялся с земли и ударом в шею опрокинул Неуманна. Тот протяжно, по-заячьи заверещал, а Юха, сев на него верхом, заломил ему руки за шею и спросил, обернувшись к Роману:
— Кляп готов?
— Не нужен кляп. Ударь его в висок, и оттащим в реку…
— Я сделаю! — прохрипел Неуманн, увидавший явственно и до жути ощутимо свою мызу, медные сковородки на стенах, тяжелые дубовые балки и мягкий свет сумерек в ровных квадратах окон.
— Пусти его, — сказал Роман.
Неуманн сел, тяжело дыша. Роман протянул ему бумагу и ручку.
— Пишите, — сказал он, — и чтобы не было фокусов с почерком, у меня есть образцы ваших реляций — я сличу.
— Что писать?
— «Я, Неуманн Артур Иванович, обязуюсь сотрудничать с резидентом ЧК в Эстонии Павлом». Подпишитесь внизу. Это раз. Теперь дальше: «Сообщаю, что секретарь комфракции Пауль Раудсепп будет перевезен в Раквере, где его намереваются убить в лесу при попытке к бегству. Дату перевоза Раудсеппа я постараюсь выяснить у Плоома, который, вероятно, будет в курсе событий. Артур».
— Я не стану…
— Станете, — тихо сказал Роман.
— Что еще?
— Пишите: «Исаев поступил в мое ведение. Нолмар через свою агентуру настаивает на том, что он является русским нелегалом в Ревеле. Артур». Дальше: «Мною, Неуманном Артуром Ивановичем, получено от Павла 3000 (три) тысячи французских франков». Подпишитесь своим именем.
Роман спрятал эти документы в карман, придвинулся к костру, погрел руки и сказал:
— Теперь о том, что вы должны будете сделать… Исаев попросит у вас врача, поскольку у него начнутся сильнейшие боли в позвоночнике… И вы переведете его в больницу, как человека недвижимого, у которого отнимаются ноги. Естественно, вы сделаете это лишь после заключения экспертов о его нетранспортабельности — чтобы соблюсти ваше реноме… Поскольку теперь вы — мой агент, ваше реноме будет соблюдаться вдвойне тщательно, обещаю вам это совершенно твердо.
— Я не смогу держать его в больнице без охраны.
— Поставьте охрану.
— Я не убежден, что ваши люди смогут взять его оттуда — охрана в достаточной мере натренирована…
— Если мы не сможем взять его — к вам претензий не будет. Конечно, коли вы захотите устроить засаду, чтобы угробить наших людей и через них выйти на меня, — тогда другое дело… Во-первых, мы живем не в семнадцатом веке и ваши расписки сегодня же уйдут за кордон; во-вторых, если, несмотря на это обстоятельство, вы все же рискнете на пакость — я не поставлю за вашу жизнь и ломаного гроша: у меня иного выхода нет. А это вот, — Роман протянул Неуманну деньги, толстую пачку марок, — возьмите, первый гонорар, и, надеюсь, не последний.
Неуманн осторожно положил деньги в карман — будто змею прятал.
— Теперь умойтесь и будем обговаривать детали…