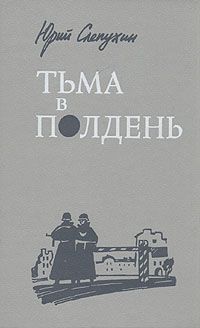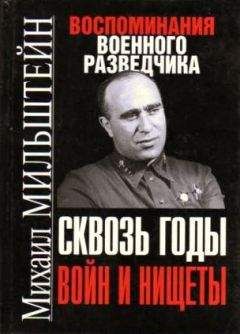Юрий Слепухин - Южный Крест
— Прекрасно, я тебя не собираюсь утаскивать, мы просто встретимся и договоримся, как быть дальше.
— Смотри, чтобы тебе не сделали укола…
— О, я буду вся на страже! Но вообще-то, если говорить честно, меня это не так уж и пугает — быть покраденной. Такая захватывающая авантюра, что ты! Вообрази только — просыпаешься где-нибудь в подвале на Лубянке, вокруг чекисты…
— Нет слов, — сказал Полунин. — Только не «покраденной», а «украденной». Запиши себе в книжечку, если еще есть место…
Ему очень хотелось побывать на выставке именно с ней, с Дуняшей; но, пожалуй, первый раз следовало все-таки прийти без нее. Сейчас он был рад тому, что они осматривали павильон не вместе. Дуняша мешала бы ему сейчас своей болтовней, своими наивными расспросами; сейчас ему хотелось быть одному.
Это посещение выставки было для него свиданием с родиной — первым за много лет. Газеты, доходившие сюда с месячным опозданием, сухо информировали о событиях дома, но о главном приходилось только догадываться, пытаясь разглядеть живой быт за стереотипными, шаблонными словами, не меняющимися уже который год. Он давно уже не видел людей «оттуда», несколько раз собирался побывать на каком-нибудь советском пароходе, но всегда что-то останавливало…
Суда под нашим флагом приходили в Буэнос-Айрес не так уж часто, но все же бывали — «Ушаков», «Сухона», в прошлом году довольно долго стоял лесовоз из Мурманска. Посетителей пускали беспрепятственно, и по воскресеньям начиналось настоящее паломничество. «Визитанты» толпились на мостике и выглядывали из иллюминаторов, по судовой трансляционной сети гремело «Широка страна моя родная», «Землянка», «Соловьи, соловьи, не тревожьте солдат»; на палубе отплясывали с моряками девчата из аргентино-советского клуба. Полунин тоже приходил на пирс — сидел поодаль на чугунном кнехте, смотрел, покуривал, слушал. Музыка из громкоговорителей на полную мощность, этого ведь нигде больше не услышишь. Когда врубали что-нибудь довоенное, можно было закрыть глаза и оказаться в сороковом году, где-нибудь на Кировских островах. В ЦПКиО жаркими летними вечерами, когда ветерок дует с «Маркизовой лужи», тоже пахнет так вот своеобразно — морем не морем, рекой не рекой…
А подняться на борт так ни разу и не решился. Скорее всего, это была просто его дурацкая мнительность, но избавиться от нее он не мог. Почем знать, как там теперь относятся к перемещенным? Еще не так давно в каждой повести о кознях американской разведки непременно фигурировал какой-нибудь завербованный подонок из «дипи» [43], как правило — с мутными глазами убийцы. Чем нарваться на недоверие (или в лучшем случае прочитать во взгляде соотечественника снисходительную жалость), лучше уж поглядеть со стороны…
Дуняша несколько раз уговаривала его побывать на советском судне вдвоем, однажды они даже поссорились из-за этого. «Но ты просто совершенно ненормальный, — кричала она, — понавыдумывал себе разные идиотические комплексы и носишься с ними, как один Иванушка-дурачок со своей расписной торбой! » Возможно, она была права. Но сводить все к этим пресловутым «комплексам» тоже значило бы упрощать проблему. Идти на пароход с Дуняшей ему не хотелось еще и потому, что он очень живо представлял себе, как неуместно и нелепо выглядела бы она там — со своими французскими словечками и своей манерой выбалтывать вслух все, что ни придет в голову…
Он и сейчас был рад, что они не вместе. Тут крылось какое-то маленькое предательство, Полунин понимал это и чувствовал себя виноватым перед нею.
Впрочем, скоро он забыл о Дуняше. Он ходил от стенда к стенду, молча слушал пояснения гидов, разглядывал станки и приборы, придирчиво обращая внимание на любую мелочь, позволяющую судить об уровне технологии. Некоторые экспонаты вызывали досаду: один станок был явно устаревшей конструкции, да еще и покрасили его, как нарочно, в какой-то дикий ядовито-зеленый цвет. Не очень благополучно по части дизайна обстояло дело с бытовой радиоаппаратурой, приемники классом повыше были громоздки, отделаны с купеческой аляповатостью. Но это ерунда, мелочь, сказал себе Полунин, в целом этот отдел выставки был на высоте. Неплохая оптика, современные металлорежущие станки, измерительная аппаратура — нет, в самом деле, такое не стыдно было бы показать и в Штатах, не говоря уж об Аргентине…
Про уговор встретиться через час он, конечно, и не вспомнил. Дуняша сама разыскала его в толпе возле макета шагающего экскаватора и подергала за рукав. Полунин очень удивился.
— Что, уже время? Скажи на милость, а я думал, прошло минут двадцать… Тебя, я вижу, не похитили.
— Увы, не польстились! Ужасно обидно — я уж размечталась, была готова к худшему. Вот так всегда бывает, когда слишком много о себе воображаешь. Отец Николай вообще считает, что я преисполнена гордыни. Вам, говорит, недостает христианского смирения, — но, боже мой, посмотрела бы я, какое смирение было у него самого, если бы к нему приставали на улицах так, как пристают ко мне! Ты же знаешь этих безумных аргентинцев. А вот большевики не оценили. Может быть, в следующий раз?
— Главное, — сказал Полунин, — не терять надежду. Ну а как твои впечатления?
— Знаешь, это интересно… Я, в общем, не думала, — не сразу ответила Дуняша. — Мне даже сейчас трудно что-нибудь сказать, впечатлений действительно слишком много… Меха великолепные, хотя мутон здесь обрабатывают лучше, есть неплохие ткани… А моды — как бы это сказать — немножко в прошлом, хотя это не удивительно, Россия всегда была un peu demodee [44], не зря наши бабушки ездили одеваться в Париж…
— Моя, боюсь, не ездила, — улыбнулся Полунин.
— Нет, ну я говорю фигурально… Ты, конечно, еще здесь побудешь? Оставайся, а я тебя покину, у меня голова уже разболелась от всей этой brouhaha [45] — нет-нет, ты оставайся, я ведь вижу, что тебе не хочется уходить! Я бы сама еще посмотрела, но боюсь, начнется мигрень. Жаль, что не экспонировали ювелирную промышленность, — кстати, ты думаешь, она там вообще есть?
— Есть, вероятно.
— Надо было спросить у барышни — ужасно милая там была барышня, такая любезная, я ее спросила, откуда она знает испанский, и она сказала, что учила в юниверситэ, — кто бы мог подумать, что большевики учат кастельяно! Так я побежала, милый. Ты когда будешь дома?
— Точно не знаю, Дуня…
— Я только в том смысле, чтобы знать, когда обед. В пять не очень рано?
— Хорошо, давай в пять…
Они вместе вышли на площадь за павильоном, где стояла крупногабаритная техника; Дуняша направилась к выходу. Полунин посмотрел ей вслед, она тоже оглянулась и, приподняв руку к плечу, пошевелила пальцами, и каким-то странным, чужеродным, не вписывающимся в окружающее показался вдруг ему весь ее облик, — здесь, среди машин, рядом с самоходной буровой установкой, эта кукольная женщина в нарядном манто, с модной прической и на острых стилетных каблучках выглядела как-то… Полунин даже не мог сразу определить — как. В общем, она сюда не вписывалась, и это ощущение поразило его. Вокруг толпились праздные, хорошо одетые люди, но они не вызывали в нем этого тревожного чувства. Это были просто посетители, многие зашли сюда так же, как могли зайти в соседний Луна-парк или в Ретиро — от скуки, от любопытства. До них ему не было никакого дела. Тогда как Дуняша…
Полунин почувствовал вдруг внезапную усталость. Приподнятое настроение, с каким он шел сюда, рассеялось без остатка, в голову полезли мрачные мысли. Ничего определенного, впрочем, так, подавленность какая-то — вроде шумового фона в наушниках, нечто унылое и бессмысленное. Сутулясь и держа руки за спиной, он обошел экспозиционную площадку, поглядывая на грузовики, тракторы, комбайны. Легковых машин было всего три — крошечный «москвич», длинный черный «ЗИМ», похожий на «бьюик» сороковых годов, бежевого цвета «победа». Вдалеке возвышался над толпой ребристый кузов громадного самосвала, — нет, всего сразу не осмотришь, да и впечатлений многовато для первого раза…
Уже две недели — с тех пор как Полунин вернулся из Парагвая, — они жили «своим домом»: Дуняшина подруга, француженка, уехавшая по делам в Европу, на время уступила ей квартиру на улице Сармьенто. Место, правда, было очень шумным, и прямо за окном всю ночь то вспыхивала, то гасла какая-то идиотская реклама, но зато эти две комнатки давали им иллюзию своего очага. А главное, как говорила Дуняша, не было рядом никакой мадам Глокнер…
Полунин вернулся домой к пяти, как и обещал. С выставки он ушел гораздо раньше, но потом еще часа два провел в порту — просто ходил по причалам, читал имена судов и названия портов приписки, дышал океанским ветром. Ветер был северо-восточный — крепкий, свежий, продутый сквозь исполинские фильтры семи тысяч миль Южной Атлантики. От этого ветра резало в груди и слезились глаза, и Полунин думал, что зря не пошел тогда судовым радистом, как советовал Свенсон, — если уж скитаться, то скитаться, стать настоящим бродягой, забыть даже имя…