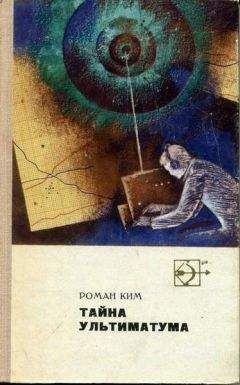Юлиан Семенов - Бриллианты для диктатуры пролетариата
— Это писал кто-то чужой, такого почерка еще ни разу не было. Донесение передал Шорохов.
— А вы не знаете, он выезжал перед этим куда-нибудь из своего офиса?
— Не знаю…
— Можно узнать?
— Постараюсь, — ответила Оленецкая как-то безучастно, неотрывно глядя в темный угол кабинета.
— Так не годится, милая моя… Вы так погубите Виктора Витальевича… Вы должны ответить в первую очередь себе: можете ли вы точно выяснить, приезжал ли вчера Шорохов в посольство и когда?
— Он пришел ко мне около девяти — румяный, как после прогулки.
Назавтра Нолмар через своих людей в политической полиции Эстонии выяснил, что машина коммерсанта Шорохова действительно выехала из здания посольства в 8.25. От наружного наблюдения, которое пытались вести агенты, не имевшие машины, но только две пролетки, автомобилю русского удалось оторваться.
Департамент полиции на запрос, сделанный Нолмаром через своего агента из министерства внутренних дел, ответил, что в редакциях эмигрантских газет и в комитете помощи беженцам был зарегистрирован новый русский Исаев. Однако адреса этого человека до настоящего времени установить не удалось. Правда, критик Александр Черниговский сообщил, что Исаев обещал на следующей неделе зайти в редакцию.
Нолмар договорился, что Черниговский немедленно поставит в известность его или — он дал три телефона — его хороших друзей о визите Максима Максимовича и постарается задержать Исаева минут на двадцать — тридцать.
«Москва. Кедрову.
За директором ювелирного концерна Маршан, остановившимся в 52-м номере “Савоя”, установлено наблюдение. Вместе с ним проживает телохранитель Вилла. Это усложняет работу, поскольку в номере всегда остается один из них и представляется невозможным просмотреть его бумаги.
Сообщаю, что в Ревель приезжал один из директоров Круппа — Дольман-Гротте. С ним имел контакты здешний германский резидент О. Нолмар. После встреч с Д.-Гротте резидент начал беседы с русскими эмигрантами, которые не связаны с местными политическими группами.
Роман».
14. Готовятся те…
«Родная моя! Видимо, несовершенство памяти человеческой позволяет — со временем — палачам становиться добрыми гениями; нежным страдальцам оказываться расчетливыми садистами; по этой же, верно, причине любимые делаются врагами, идиоты — гениями, скучные недоучки — великими прозорливцами. Это я о себе… Я сижу сейчас возле окна, которое выходит в весенний сад, нет, просто в сад — как и прежде, я спешу, но мне очень недостает этого весеннего цветения, и поэтому я позволяю себе жить чуть-чуть вперед — уже в весеннем цветении. Что делать — тороплюсь, но характер — это такая данность, которую можно сломить, но нельзя изменить.
Вероятно, все наши с тобой горести происходили оттого, что я вывел эту точную формулу, но соотнес ее лишь с самим собой. Видимо, сам того не замечая, я хотел сделать тебя своим слепком, неким повторением себя самого, не понимая, что случись это — и станет невыразимо скучно, как скучно и одиноко делается человеку, окажись он в пустом зеркальном зале, и не на час — на всю жизнь.
Наверное, это очень плохо, когда люди узнают друг про друга все, до самых, как говорил Егорушка, «подноготностей». Тайна, недоговоренность так же дисциплинируют в любви, как в бою, в политике и в биржевом сражении. Я убежден, что агрессия становилась возможной, лишь когда одна сторона узнавала главные тайны другой.
Но знаешь, сейчас, по прошествии лет, я вдруг подумал, что еще хуже, когда смотришь на женские лица и начинаешь понимать, что тайна, сокрытая в их глазах и улыбках, тщательно ими выверена, а потому заранее понятна, что тайну свою они берегут не по причине смущения или робости, но подобны в этом государству, оберегающему свой суверенитет. Когда границы человеческих отношений очерчены четко и оберегаются взаимными гарантиями, тогда сохранится и тайна, и вежливая сдержанность, и дисциплина взаимоотношений — все сохранится, но не будет чуда, которое было, когда ты слушала музыку или купала детей у нас в Сосновке в ванночках летом на лужайке, под солнцем; не будет того, что было, когда ты читала и я видел, как жило твое лицо — как двигались брови, печалились глаза и губы шепотом повторяли полюбившиеся строки: ты очень любила по нескольку раз перечитывать хорошие строки.
Мы не верим в потерю до тех пор, пока не потеряем. Ты сказала: «В отличие от тебя, я играю в открытую — я жду его писем». Я должен был сделать совсем не то, что сделал. Я не имел права бросить все и уйти. Будь проклята эта моя обидчивость — да и не только моя, а твоя тоже, давай уравняемся хотя бы в этом… А ведь больше всего я боялся не твоей измены — глупой измены. Я боялся всегда, что тебя могут обидеть. На земле очень мало хороших мужчин. Особенно это заметно, когда сидишь на мальчишнике и слушаешь друзей, которые рассказывают подробности любви, смеются, перемигиваются, а глаза полны презрения, а рты — сластолюбивы и гадки. Я боялся, что вместо меня — слюнявого философа, несостоявшегося гения — встретится расчетливый нувориш, который сумеет тебя подчинить себе и будет с тобой лишь спать, а ходить в консерваторию вместе со своей женой. «Слабый» пол всегда тяготеет к сильному. Добровольное подчинение возможно только в женской любви. А это и страшнее и надежнее рабства…
Я не любил никого, кроме тебя. Искал ли я? Не знаю, быть может. Память, время — все смешалось в бедной голове моей: кто злодей, где жертва? Бог знает… Хотел ли я преклонения? Вряд ли… Веры в себя — скорее… Наверное, ты очень стыдливо и затаенно верила в меня… А быть может, в самом начале я обманул тебя — ты поверила, что я очень сильный, а я казнился тем, что слаб и не уверен в себе. Не знаю, любимая, ничего не знаю. Встретить бы тебя сызнова, сейчас, в теперешнем моем качестве — после фронтов, революций, изгнаний… Ты полюбила бы меня больше и лучше, а я увидел бы в тебе то, чего не мог видеть и понимать раньше.
Говорят, что надо уметь беречь любовь. Эти понятия — «сбережение» и «любовь» — несовместимы, и всякая попытка совместить их безнравственна. Сберечь можно драгоценности тетки Варвары или молоко в жару, если в поместье хорош ледник. Беречь любовь нельзя: это вне нас, и в то же время это суть наша, это и далеко и рядом. Должна быть редкостная совпадаемость душ, одна из которых взяла на себя тяжкий крест любви. Только нельзя любить несчастных — особенно несчастных женщин и слабых мужчин. И то и другое — изнурительный сюжет для Достоевского, который кончится трагедией, и это будет продиктовано не фантазией гения, но правдой…»
Анна Викторовна, наблюдавшая за Воронцовым из-под полуприкрытых век, спросила:
— Что вы пишете?
— Письмо.
— Зачем вы делаете это?
— Я знаю, зачем я это делаю.
— Я смотрела на ваше лицо. Вы унижали себя и очень жалели, но вы совсем не верили тому, что писали. Вы играли сейчас, Дмитрий, как актер, который не верит пьесе. Женщина, которой вы адресуете это, не поймет вас. Мужчины не меняются, меняются лишь женщины, которые проходят через горе… Или через счастье. И если женщина изменится, ей будет, не обижайтесь, смешно читать экзерсисы своего прежнего возлюбленного… Вас может примирить с ней лишь поступок…
— Какой?
— Не знаю… Вам, наверное, очень хотелось бы снова быть раненым, лежать при смерти, но так, чтобы на этот раз она увидела все это и пришла к вам, но если бы она пришла, вы бы неминуемо обидели ее.
— То, что вы сказали, относится к разряду беллетристики.
— Может быть, — безучастно согласилась Анна Викторовна.
— Отчего вы так легко соглашаетесь с тем, что я говорю?
— Я люблю вас…
— Перестаньте.
Она покачала головой:
— Это не должно вам мешать: если вам понравится какая-нибудь женщина, я стану домогаться у нее любви — для вас.
— Вы не можете любить, оттого что вы шлюха.
— Только шлюха и может любить…
Воронцов поднялся из-за стола и вышел в соседнюю комнату: на печке спал Олег — божий человек, а Крутов сидел возле окна и раскладывал пасьянс.
— Как Олег? — спросил Воронцов.
— Я дал ему соды…
— Изжога?
— Нет, сода помогает организму справиться с алкогольным отравлением.
— Завтра оклемается?
— Прекрасное слово «оклемается». Вы сами из пьющих?
— Из.
— А я исключил алкоголь из употребления, как только почувствовал утром необходимость поправиться махонькой. Дед говорит: «Играй — не отыгрывайся, пей — не похмеляйся». А деды всегда умнее, хотя мы по молодости считаем их склеротическими мумиями.
— А вам дед никаких философских суррогатов по поводу «времени» не оставлял?
— Оставлял. Советовал «поспешать с промедлением».
— А вот Толстой, наоборот, утверждал: в минуту нерешительности действуй быстро и старайся сделать первый шаг, хотя бы и лишний.
— А что нам делать без Олега?