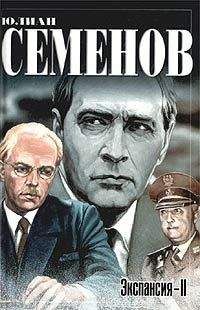Юлиан Семенов - Экспансия – II
— Что вы еще узнали, дружище? — спросил Штирлиц.
— Я узнал, что мой чемодан улетел в Буэнос-Айрес, вот что я узнал. Тю-тю! Это вам не Европа. А там два костюма, пальто и пара прекрасных малиновых полуботинок. Наша авиетка вылетит через два часа, по дороге три посадки, в Игуасу будем к вечеру… Это, кстати, хорошо, вечером здесь полная анархия, — сейчас здесь начинается лето, жара, они клюют носом…
— Это все, что вам удалось разведать за двадцать минут?
Ригельт вздохнул:
— Мало?
— Да уж не много.
— Молите бога, что вы встретили меня, Штирлиц. Сидеть бы вам без меня в каталажке. А здешние тюрьмы весьма и весьма унылы.
— Сажали?
— Рассказывал Герман Нойперт, из пятого управления, помните?
— Совершенно не помню.
— Ну, и бог с ним… Но рассказывал красочно: мокрицы, крысы; жарища — летом, холод — зимой, совершенно не топят, еда два раза в день… Ну и, конечно, пытки, они здесь не церемонятся.
— Можно подумать, что у нас церемонились…
Ригельт пожал плечами:
— У нас никого и никогда не пытали, Штирлиц.
— Браун.
— Да, будет вам, право! Тем более, что в газетах про вас написано как про «Стиглиса».
«Скорцени учился в одной школе с Кальтенбруннером, — вспомнил отчего-то Штирлиц. — И сидел за одной партой с Эйхманом, друзья детства. Интересно, этот из их же компании? Ну и что, если из их? А то, что в параллельном классе учился Хеттль, вот что, — ответил себе Штирлиц. — А ему, только ему я открылся: он знает, что я был на связи с русской разведкой. Ну и что? — снова спросил он себя. — Мюллер тоже знал об этом. Кальтенбруннер повешен в Нюрнберге, Скорцени сидит в лагере, Эйхмана нет и Мюллера тоже. А где они? — спросил он себя. — Ты знаешь, где они? Ты можешь дать гарантию, что их нет в этой самой Игуасу? Остановись, — сказал себе Штирлиц, — ты испугался, мне стыдно за тебя. Ну и что, допусти я возможность того, что Эйхман встретит меня в аэропорту? К тому, что тебя могут шлепнуть, ты был готов все двадцать девять лет, что служил в разведке, так часто был готов к этому, что перестал уже пугаться; пугает то, что человеку в новинку. Хорошо, а если Мюллер? Или Эйхман вместе с этим Ригельтом — какая в конце концов разница — получат меня в свое безраздельное владычество? Ну и что? Я пока что не вижу, какую они могут извлечь из этого выгоду. Месть? Нет, это уже сюжет для Александра Дюма, несерьезно. Задумывать такую комбинацию, чтобы отомстить мне? Не верю. Хорошо, а если все, что произошло за последние сутки, — сцепление случайностей? Что если я действительно потерял паспорт, сунул его мимо кармана? Я запутался, вот что произошло, — сказал себе Штирлиц. — А это дурно. Но выпутаться я смогу только в том случае, если хоть в малости верну былое здоровье. Выживает сильный».
— Вы голодны? — спросил Ригельт.
— Нет, — ответил Штирлиц, но, подумав, что на голодной диете силу не вернешь, от голода только дух светлеет, поинтересовался: — А что здесь можно получить? Сандвич?
— В другом конце зала есть некое подобие ресторана… Духота, мухи, но мясо хорошее, я унюхал.
— Пошли.
— И выпьем, да?
— Не буду.
— Напрасно, здесь очень хорошие вина.
— Не буду, — повторил Штирлиц. — Бурчит в животе и голова потом пустая, а это тяжело, когда несешь пустое.
— Я завидую тому, как красиво вы говорите, Браун. Где вы учились?
— На дому.
— Я спрашиваю серьезно.
— Я так же и отвечаю.
— Да будет вам!
— Что вы такой недоверчивый? Мужчины вашей комплекции должны источать доверие, открытость и абсолютное бесстрашие.
— Спасибо за совет, только я считаю, что самое выгодное — это скрывать то, чем на самом деле обладаешь.
— Может быть, не знаю. Я придерживаюсь другой точки зрения. Все зависит от уровня, — нажал Штирлиц. — Битву вы закончили в каком звании?
— Штурмбанфюрера.
— Тогда понятно, — кивнул Штирлиц; это разозлит его, честолюбив, значит, в чем-то откроется.
— Но, по-моему, должность адъютанта Отто Скорцени будет цениться — а в будущем особенно — значительно выше рун в петлицах. В истории остаются имена, а не звания.
— Как сказать.
— Вы спорите для того, чтобы спорить, Браун.
— Как угодно… Только книга древнего классика называлась «Жизнь двенадцати цезарей». Название, продиктованное титулом, если хотите, званием. Юлий и Август под одним корешком — и только потому, что были цезарями. Не обижайтесь, Викель, не стоит, я же сказал вам не при публике, а один на один, это не обидно, наука.
— Вы постоянно разный, Шт… Браун. Это ваша всегдашняя манера?
— Жизнь научила, — усмехнулся Штирлиц, проводив взглядом очаровательную мулатку. «Надо же так вертеть попой, а?! И это не срепетированное, это в ней от рождения: солнце, не знают холода, меньше калорий расходуют на защиту от морозов, вот все и уходит в секс».
Он снова вспомнил слова отца. Когда Правительство РСФСР переезжало в Москву, он, восемнадцатилетний тогда, отправился вместе с Дзержинским, первым; в купе набилась почти вся когорта Феликса Эдмундовича — Артузов, Бокий, Беленький, Кедров, Трифонов, Уншлихт; гоняли чаи, говорили почему-то очень тихо — может быть, сказывалась конспирация последних недель, когда только начали готовиться к передислокации.
Отец должен был приехать через неделю, однако — изможденный, поседевший еще больше — он добрался до первопрестольной (это слово, вспомнившееся здесь, в аэропорту Рио-де-Жанейро, сжало сердце острым, как боль, приступом тоски) только в середине апреля и сразу же свалился. Дзержинский послал доктора Гликмана, тот отбывал с ним ссылку в Восточной Сибири, с тех пор дружили нерасторжимо, хотя Гликман был членом партии левых эсеров и далеко не все принимал в большевизме. Выслушав отца, обстукав его своими пергаментными, длинными пальцами, доктор сказал, что воспаления легких нет; обычное истощение организма, пройдет к лету, когда на базарах появится хоть какая-то зелень, прописал микстуру и откланялся.
Проводив его задумчивым взглядом, отец тогда сказал:
— Может быть, он хороший чекист и понимает в судебно-медицинской экспертизе, но врач он легкий.
— Что ты, па, он многих на ноги поставил, из тифа вытянул.
Отец покачал головой, взъерошил костистыми крестьянскими пальцами свою седую волнистую шевелюру и вздохнул:
— Он же не спросил, сколько мне лет, сын. Он дал мне на глаз семьдесят, не спорь, я сейчас так выгляжу, а мне пятьдесят четыре, и этот возраст более страшен, чем семьдесят, потому что наступает пора мужской ломки; былое, ежели позволишь, молодое, уходит, наступает новая пора… Вот, — он достал из-под подушки растрепанную книжку, — Иван вчера утром занес, лекции по антропологии, крайне интересно и оптимистично. Микстуру твоего доктора я пить не стану, сын, не обижайся, и упаси господь ему про это сказать, может ранить его профессиональную честь… Все верно, сын, все верно, нас живет на земле великое множество, человеков-то, многие похожи друг на друга, но ведь одинаковых нет. Ни одного. Да и форма каждой личности постоянно меняется, пребывая в безостановочном развитии: от мгновения, когда оплодотворяется яйцо, становясь зародышем, плодом, ребенком, юношей, мужчиной, стариком, трупом, каждый — а в данном конкретном случае (отец прикоснулся пальцем к груди) я, Владимир Александрович Владимиров, — переходит рубеж, при котором круто изменяется форма его субстанции. А что такое изменение формы? Это, увы, изменение… отправлений. Не зная отправлений, совершающихся в нашем организме, нельзя понять суть формы человека, то есть того, что он являет собой… Я ныне являю собой человека, начинающего стареть… Я о внуках мечтаю, сын, видишь ли, штука какая… Не надо ни на что надеяться — сверх меры… И не следует бояться того, что грядет: мы всегда более или менее живы, но обязательно станем мертвыми, причем опять-таки — более или менее.
«Что же я тогда ответил ему? — подумал Штирлиц. — Я сказал ему что-то обидное, мол, ты хандришь, надо начинать работать, это лучший лекарь от душевной хворобы, а папа, подмигнув мне, ответил: „Сынок, чтобы человеку нахмуриться, потребно напряжение шестидесяти четырех мускулов лица. А улыбка требует работы всего тринадцати. Не расходуй себя попусту, экономь силы, пожалуйста, почаще улыбайся, даже если ты с чем-то не согласен“».
— Не думаете ли вы, что штандартенфюрер ближе к цезарю, чем я? — усмехнулся Ригельт («Он что-то готовил мне в ответ, — понял Штирлиц, — я крепко задел его, он сейчас отомстит»). — Ошибаетесь. Наши с вами звания — чем выше, тем громче — преданы анафеме, «проклятые черные СС». А Скорцени всегда был зеленым СС, а их приравняли к вермахту…
— Кто?
— Союзники.
— Русские?
— Ах, перестаньте вы об этих русских, Шт… Браун! Американцы уже собрали в лагерях — прекрасные домики в Алендорфе, Кенигштайне и Оберзукле — начальника генерального штаба Гальдера, Гудериана, Цейтлера, их заместителя генерала Блюментритта, генералов Хойзингера, Шпейделя, Варлимгита, Мантейфеля, да не перечесть всех, и засадили за написание истории второй мировой войны. Имя Скорцени в такого рода истории будет присутствовать, а вот звание «штандартенфюрер» даже и не упомянут.