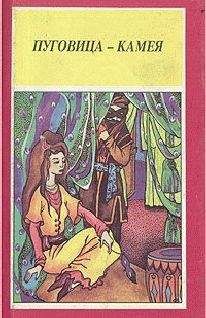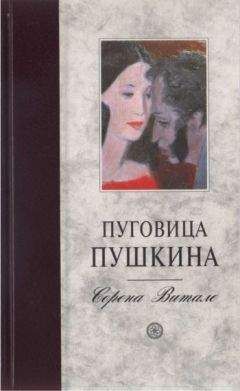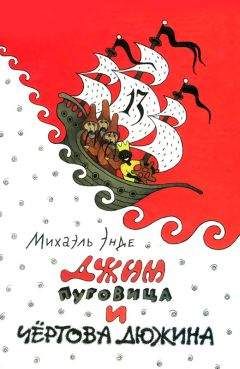Юлиан Семенов - Экспансия – I
— Энрике, — сказал он, наконец, — вы слишком долго тянете с переправкой меня в глубь территории. Я понимаю, люди готовят операцию с возможно надежной тщательностью, но как бы вы не привезли меня туда, где не ездят машины, совершенным психом, не способным более ни к чему.
— Ах, Рикардо, — улыбнулся Тростхаймер, — отдыхайте спокойно. — (Ни разу Тростхаймер не назвал Мюллера прежним именем или фамилией, не говоря уже о звании, к чему тот привык за последние годы; обращения «группенфюрер» недоставало; порою казалось даже, что отсутствует какая-то часть туалета, то ли галстука нет, то ли носки не натянул.) — Мы слишком дорожим вами, — продолжил Тростхаймер, — чтобы идти на необдуманный риск. Сейчас происходит необходимая в данной ситуации рекогносцировка, мы распределяем наиболее важных гостей по регионам таким образом, чтобы была неукоснительно соблюдена пропорция в размещении руководителей, среднего звена и рядовых сотрудников… И потом мы сочли необходимым дать вам время на карантин: там, куда вы поедете, нет еще хорошей медицины, вдруг возникнет необходимость в рентгене, серьезных анализах, консилиуме лучших медиков? Нагрузки последних месяцев сказываются не сразу, возможен сердечный криз, я допускаю, что у вас начнет скакать давление… Все это лучше локализовать здесь, неподалеку от центров… Осваивайтесь со своим новым именем, учите испанский. Я не зря представил вам двух моих молодых друзей, они в вашем полном распоряжении. Спите, купайтесь, гуляйте… Я бы не взял на себя смелость говорить так, не будь убежден в вашей абсолютнейшей безопасности…
Привыкший за последние годы к тому, что все его команды выполнялись неукоснительно, научившись видеть в глазах окружавших алчное желание исполнить любую его прихоть, утвердившийся в мысли, что лишь он знает, как надо поступать в той или иной ситуации, Мюллер болезненно переживал свое новое положение, когда ему следовало ждать указания неведомо от кого, выходить к завтраку, обеду и ужину строго по времени, когда гулко ударял медный гонг, укрепленный под пальмой в маленьком внутреннем патио, и поддерживать разговор за столом с хозяином и двумя «учителями», исполнявшими также функцию охраны; собраны, услужливы, молчаливы, но без того, столь любезного сердцу Мюллера рабства (к этому привыкают быстро, только отвыкать долго приходится), которое отличало тех, кто обеспечивал в рейхе его безопасность, готовил еду, убирал в особняке и возил на машине.
«Что значит иной континент, — тяжело думал Мюллер, приглядываясь к этим двум молчаливым крепышам, — что значит прерванность связи с почвой! Да, немцы, конечно, немцы, но аргентинские немцы! Здешняя среда уже наложила на них свой отпечаток, они позволяют себе начать разговор, не дослушав меня, выходят к ужину в рубашках с короткими рукавами, в этих отвратительных американских джинсах, словно какие-то свинопасы; гогочут, плавая наперегонки в бассейне, не понимая, что все это может отвлекать меня от мыслей, а то и просто раздражать. Нет, дома такое невозможно, все-таки родная почва дисциплинирует, чужая — разбалтывает; дети, которые воспитывались в доме богатых родственников, да еще за границей, теряют безусловное следование традициям, это печально».
Впрочем, как-то подумал он, такого рода мнение противоречит нашей расовой теории; по фюреру — любой немец остается немцем, где бы он ни жил, в каком бы окружении ни воспитывался; кровь не позволяет ему потерять себя. Почва, повторил Мюллер, здесь другая почва, хоть кровь немецкая. А что такое почва? Мистика, вздор. Песчаник или глина. Здесь другие передачи радио; сплошь танцевальная музыка; даже мне хочется двигаться в такт ее ритму; здесь другая еда, такого мяса я не ел в рейхе; на стол ставят несколько бутылок вина и пьют его, как воду, — постоянное ощущение искусственной аффектации сказывается на отношениях людей, это не пиво с его пятью градусами, совсем другое дело. Они читают американские, французские и мексиканские газеты; живут рядом с англичанами, славянами и евреями, здороваются с ними, покупают в их магазинах товары, обмениваются новостями, постоянная диффузия, она незаметна на первый взгляд, но разлагающее влияние такого рода контактов очевидно.
Он успокоился тогда лишь, когда маленький «дорнье» приземлился на зеленом поле рядом с особняком; молчаливый летчик приветствовал его резким кивком — шея будто бы потеряла на мгновение свою устойчивую мускулистость, не могла более удерживать голову; Мюллеру понравилось это; видимо, летчик не так давно из рейха. Тростхаймер помог ему сесть в маленькую кабину, справа от пилота.
— Счастливого полета, Рикардо! Я убежден, что в том месте, куда вы летите, вам понравится по-настоящему.
Когда самолет, пробежав по полю какие-то сто метров, легко оторвался от земли и резко пошел в набор высоты, Мюллер спросил:
— Куда летим?
— В горы. За Кордову. Вилла Хенераль Бельграно. Это наше поселение, практически одни немцы, прекрасный аэродром, дороги нет, приходится добираться лошадьми, каждый грузовик там — событие, так что ситуация абсолютно контролируема.
— Прекрасно. Сколько туда километров?
— Много, больше тысячи.
— Сколько же времени нам придется висеть в воздухе?
— Мы сядем в Асуле. Там наши братья, заправимся, отдохнем и двинемся дальше. Возле Хенераль-Пико пообедаем, затем возьмем курс на Рио-Куарто, неподалеку оттуда заночуем: горы, тишина, прелесть. А завтра, минуя Кордову, пойдем дальше; можно было бы допилить и за один день, но руководитель просил меня не мучить вас, все-таки висеть в небе десять часов без привычки — нелегкая штука.
— Сколько вам лет?
— Двадцать семь.
— Жили в рейхе?
— Да. Я родился в Лисеме…
— Где это?
— Деревушка под Бад-Годесбергом.
— Давно здесь?
— Два года.
— Выучили язык?
— Моя мать испанка… Я воспитывался у дяди… Отец здесь живет с двадцать третьего.
— После мюнхенской революции?
— Да. Он служил в одной эскадрилье с рейхсмаршалом. После того как фюрера бросили в застенок, именно рейхсмаршал порекомендовал папе уехать сюда, в немецкую колонию.
— Отец жив?
— Он еще работает в авиапорту…
— Сколько ж ему?
— Шестьдесят. Он очень крепок. Он налаживал первые полеты через океан, из Африки в Байрес…
— Куда?
— Буэнос-Айрес… Американцы любят сокращения, экономят время, они называют столицу «Байрес». Приживается…
Мюллер усмехнулся:
— Отучим.
Пилот ничего не ответил, глянул на группенфюрера лишь через минуту, с каким-то, как показалось Мюллеру, сострадательным недоумением.
— Вы член партии?
— Да. Все летчики должны были вступить в партию после двадцатого июля.
— «Должны»? Вы это сделали по принуждению?
— Я не люблю показуху, все эти истерики на собраниях, лизоблюдские речи… Я Германию люблю, сеньор Рикардо… С фюрером, без фюрера, неважно…
— Как вас зовут?
— Фриц Циле.
— Почему не взяли испанское имя?
— Потому что я немец. Им и умру. Я был солдатом, мне нечего скрывать, за каждый свой бомбовый удар по русским готов отвечать перед любым трибуналом.
— А по американцам?
— Америка далеко, не дотянулись… Болтали о мощи, а как дело коснулось до удара, так сели в лужу…
— Отец состоял в партии?
— Конечно. Он старый борец, ветеран движения.
— Дружите с ним?
— А как же иначе? — пилот улыбнулся. — Он замечательный человек… Я преклоняюсь перед ним. Знаете, он готовил самолеты французам, которые шли из Байреса на Дакар… Очень любил одного пилота, Антуана Экзюпери, нежен, говорит, как женщина, и смел, как юный воин… Отец работал с ним по заданию, надо было понять, не военные ли открывают эту трассу под видом пассажирских самолетов, рейхсмаршала это очень интересовало, вот отец и получил указание с ним подружиться… Отец говорит, он книжки какие-то писал, этот Экзюпери, не читали?
— Даже не слышал.
— Очень много рассказывал, доверчив, отец говорит, как ребенок, ничего не стоило расшевелить… Пьяница, конечно, как все французы… Бабник… Отец пытался найти его в концлагерях, думал, сидит после поражения Франции… Так вот он рассказывал папе, что высшее наслаждение лететь через океан одному, ты, небо и гладь воды… Я его понимаю, в этом что-то вагнеровское, надмирное… Странно, что это мог почувствовать француз…
— А Гюго? — усмехнулся Мюллер. — Бальзак? Мопассан? Золя? Они что, не умели чувствовать?
— Я не люблю их. Они пишут как-то облегченно. А я предпочитаю думать, когда читаю. Я люблю, чтобы было трудно… Когда мне все видно и ясно, делается неинтересно, словно обманули. Писатель особый человек, я должен трепетать перед его мыслью…
— Он должен быть вроде командира эскадрильи, — вздохнул Мюллер.
Фриц обрадовался:
— Именно так! Необходима дистанция, во всем необходима дистанция! Иначе начинается хаос…
«Откуда в нем эта дикость, — подумал Мюллер. — Не вступал в НСДАП, оттого что не нравилась истерика на собраниях, значит, что-то чувствовал, самостоятелен. Почему же такая тупость и чинопочитательство, когда заговорил о писателе? Тебе это не по нутру? — спросил он себя. Не лги, тебе это очень нравится, а особенно то, что мы летим над безлюдьем, ни одного дома, какое же это счастье — одиночество…»