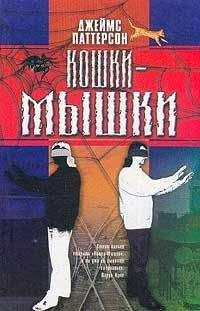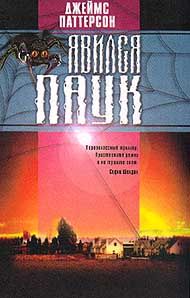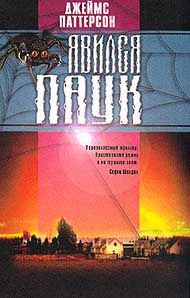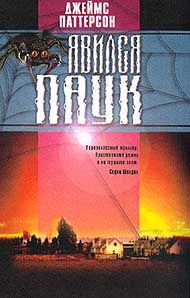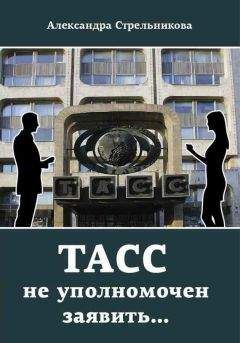Юлиан Семенов - ТАСС уполномочен заявить
— Я знаю. Так вот, Раиса Исмаиловна, меня интересует все, связанное с Ольгой Винтер.
— С Олей?! — поразилась Ниязметова; в глазах у нее сразу же появились слезы. — А в чем дело? Какое горе, боже ты мой, какое горе!.. Почему вас интересует — особенно теперь — Оленька?
— Когда она была у вас последний раз?
— Не помню… Дней пять назад. Или четыре. А что?
— Она была одна?
— Нет. С Сережей.
— С каким Сережей?
— То есть как — с каким? С Дубовым. Они пришли ко мне часа в два, с шампанским: Сережа где-то достал «брют», Абрау Дюрсо, самое сухое. Посидели, поболтали, потом ушли…
— Как себя чувствовала Ольга?
— Хорошо. В этом-то и ужас! Если бы болела… Ко мне, кстати, приходил молодой человек, тоже про Олю расспрашивал.
— Припомните, пожалуйста, что было в тот вечер?
— Ничего не было.
— Сколько времени они провели у вас?
— Час, не больше.
— Вы говорили о чем-нибудь?
— Конечно.
— Но вы не помните о чем, да?
— Запоминаются слова в какой-то кризисной ситуации… Простите, вас как зовут?
— Я не представился? Меня зовут Константин Иванович.
— Так вот, Константин Иванович, согласитесь, что трудно говорить кому-то третьему о разговоре с друзьями, о спокойном разговоре… Оля поставила кассету, она знает… — Ниязметова снова заплакала, — она знала все мои кассеты, потому что надарила тьму, каждый раз привозила из Луисбурга. Демиса Руссоса поставила, прекрасный певец, правда?
— Я не слыхал.
— Его сейчас очень любят: полная раскованность, искренний, ранимый какой-то, все отдает песне, как Виктор Хара… Так вот, Оля поставила Руссоса, села рядом с Сережей и спросила его, помнит ли он эту песню, а он ответил, что не помнит, а Оля сказала: «Дураш, это ж наша песня». Он удивился, посмотрел на нее, а она рассмеялась, она чудно смеялась, мертвый бы рассмеялся, и сказала: «Помнишь, эту песню все время играли в нашем люксе?» А он снова не понял: «В каком люксе?» А Оля развеселилась еще больше: «Да в „Хилтоне“, в „Хилтоне“!» Он как-то слишком резко поднялся и опрокинул на нее бокалы с шампанским, а у нее чудное платье было, плиссированное, джерси, очень легкое, сейчас это модно. Он расстроился, взял ее за руку, отвел в ванную, а потом они вернулись тихие, какие-то странные… Я попросила Олю: «Расскажи про ваш номер», а она посмотрела на Сережу, улыбнулась через силу и ответила: «В другой раз». И замолчала, ни слова не сказала больше…
— Это все, что случилось за шестьдесят минут? — тихо спросил Константинов. — Не помните, кто из великих утверждал, что «талант — это подробность»?
— Кажется, Чехов.
— Нет, Чехов говорил иначе, он писал, что «краткость — сестра таланта». — Константинов вздохнул. — Неплохо, если бы наши писатели взяли себе этот девиз… О «подробностях» писал Тургенев.
— Но он вполне мог примерить на себя чеховскую мысль — все его романы очень короткие.
— Верно, — согласился Константинов. (Он намеренно сломал темп разговора, чтобы дать женщине возможность успокоиться.) — И это понятно. Прочитайте Тургенева еще раз, я не говорю о романах, возьмите его письма: помните, как он подробно выписывал соловьиные трели? Это можно печатать как стихи в прозе, он нашел слова для передачи каждого колена соловьиной песни в каждом уезде Курской губернии — поразительно!
— Знаете, а ведь Ольга — утренний человек, — задумчиво сказала Ниязметова и снова поправилась: — Была… Была утренним человеком…
— Не понял…
— Это я мостик от соловьев перебросила, — пояснила Ниязметова. — Есть люди утренние, а есть вечерние. Утренние — всегда улыбаются, даже если плохо им, они как бы страшатся обидеть окружающих дурным настроением. А вечерние — настроение выставляют напоказ, как на витрину. Я не могу понять, отчего вы интересуетесь Олей, я же знаю, ЧК зря не интересуется человеком.
— Вот вы сказали, что Дубов резко поднялся, опрокинул стол… Еще раз вспомните, после каких слов Ольги это произошло?
— Она говорила «наш люкс», а он понять не мог, а когда она сказала про «Хилтон», он поднялся и перевернул… — Ниязметова вдруг замолчала, на лбу собрались мелкие морщинки, так бывает у людей, которые любят солнце и очень быстро загорают.
— Вы не знаете, Раиса Исмаиловна, — простите, пожалуйста, этот вопрос, — у них близость началась еще в Луисбурге?
— Вы хорошо сказали — «близость». Сейчас говорят: «они встречаются», очень вульгарно, правда? Я не спрашивала ее об этом, Константин Иванович… А она не говорила. Она — при всей своей открытости — очень скрытна, когда дело касается личного. Но мне кажется, что все у них началось там.
— Она собиралась замуж за Дубова?
— Трудно сказать. Не знаю. Помню только, однажды Оля призналась: «Сережа не любит детей». Она потом недели три избегала встреч с ним, жила у меня, я ведь бестелефонная, найти трудно, скрывайся на здоровье…
— А у кого еще она могла скрываться?
— У Гали Потапенко, это наша подружка… У… да нет, пожалуй, все.
— У Винтер аспиранты в институте были, Раиса Исмаиловна?
— Вы очень жестоко сказали: «У Винтер»… Она для меня была и останется Оленька… Что касается аспирантов, то ведь, по-моему, каждый, кто готовится к докторской, должен иметь учеников.
— Это я знаю…
— Что, кончали аспирантуру?
— Нет, у меня есть аспиранты. Я, с вашего позволения, доктор юриспруденции.
— Вот уж не подумала бы!
— Почему?
— Не знаю.
…Галина Ивановна Потапенко работала старшим экономистом «Росавтотехобслуживания». Телефон на ее столе звонил беспрерывно. Константинов несколько раз пытался начать разговор, но ничего путного из этого не получалось. Он ненароком глянул на часы: прошло уже пять минут, как он был здесь, а Потапенко продолжала обсуждать вопрос строительства базы в Бронницах, просят успеть к Олимпиаде, — сервис по всем дорогам Российской Федерации, десятки тысяч машин из-за рубежа, надо быть во всеоружии…
— Галина Ивановна, — шепнул Константинов, — у меня совершенно нет времени…
Женщина кивнула, зажала рукой мембрану:
— Сейчас выйдем в коридор, одну минуточку подождите…
Константинов решил не вызывать Потапенко в КГБ; во-первых, он считал, что разговор в его кабинете будет носить совершенно иной характер, женщина может растеряться, не зря ведь хороший доктор обычно наносит визит; больному и стены дома помогают, он хозяин, раскован; во-вторых, полагал Константинов, у него не было достаточных оснований для допроса, да и не его это дело, а следствия.
— Ну пошли покурим, — сказала Потапенко, положив трубку, — здесь жизни не будет.
В коридоре они устроились на диванчике, возле окна; Потапенко закурила советское «Мальборо», обхватила колено левой рукой (так обычно женщины устраиваются на пляже, причем такие женщины, которые хорошо плавают), обернулась к Константинову:
— Рая мне звонила, Константин Иванович, она просила помочь, я готова; сразу же даю вам честное слово.
— Спасибо. Вы, следовательно, в курсе того, что меня интересует?
— Да. Странно все это…
— Что именно? Почему странно?
— Понимаете, Оля приехала ко мне, глазищи больные, какая-то выжатая, я ее не помню такой… Даже не знаю, ловко ли об этом говорить… Словом, она попросила меня оценить серьги. Бриллиант с изумрудом, очень красивые…
— Почему сама не пошла к ювелиру?
— Потому что месяц назад я сестре к свадьбе купила серьги и оценивать ездила к Григорию Марковичу, есть один старик, при царе еще работал.
— Можно ведь было спросить его адрес.
— Он не примет. Он же не работает, на пенсии, он только тех принимает, с кем знаком, они такие недоверчивые, эти старики ювелиры… Но что интересно, там, в коробочке, под сафьяном, лежала записка: «Сережки от Сережки». Значит, это Дубов ей подарил.
— Это когда было?
— После того как они от Раи уехали, часа через три. Оля оставила серьги, сказала, что перед вылетом заберет, и вот…
— Где эти серьги?
— У меня… Я собиралась съездить к ее папе… Но тяжко это, говорят, старик очень плох, еле дышит…
— Ольга вам ничего не объясняла?
— Что именно?
— Ну отчего выглядит плохо? Зачем понадобилось оценивать подарок друга?
— Какие-то вещи не объясняются, Константин Иванович, даже подругам.
— А мы, мужчины, друзьям, настоящим друзьям, рассказываем всё.
— За это мы вас и любим. Так вот, Григорий Маркович оценил эти серьги. Они стоят пять или семь тысяч рублей. Причем он полагает, что они не нашего производства.
— А чьего?
— Ему кажется, это бельгийская работа; бриллиант, он считает, африканский, раньше ведь бельгийцы владели алмазными копями…
— Вы с Дубовым тоже дружны?
— Как вам сказать… Я, признаться, не очень ему симпатизирую; хоть и умен и, Оля говорила, талантлив, и не пьющий, а все равно не лежит у меня к нему сердце.