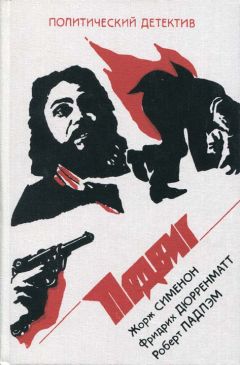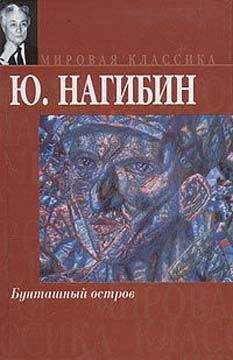Жорж Сименон - Президент
— Кто же?
— Комиссар Доломье.
— Когда?
Она не решалась ответить.
— Еще в Париже?
— Нет. Около двух лет назад. В свободный день я как-то поехала в Этрета, он ждал меня. Он сказал, что его командировали с официальными полномочиями и что от имени правительства он поручает мне…
— Правительство правильно сделало. Я поступил бы, конечно, так же. Вам предложили снимать копии с документов?
Все еще всхлипывая, она отрицательно покачала головой. На ее щеках блестели слезы.
— Нет. У инспектора Эльвара есть фотоаппарат…
— Значит, вы передавали ему бумаги, а на следующий день он их возвращал?
— Иногда через час. Ничего не пропало. Я следила, чтобы он отдавал мне все бумаги до единой.
Она не понимала поведения Президента, не могла поверить, что оно искреннее. Вместо того, чтобы прийти в ярость, как того можно было ожидать, или огорчиться, он был таким спокойным, каким она его редко видела. Его лицо светилось мягкой улыбкой.
— Думаю, сейчас не будет иметь уже ровно никакого значения, если мы уничтожим все эти бумаги, не так ли?
Она силилась улыбнуться, и это ей почти удавалось, ибо он выглядел как человек, у которого с души свалилась тяжесть, и ей невольно сообщалось то ощущение свободы и легкости, которым веяло от него. Впервые он обращался с ней как с равной, и между ними даже возникла некоторая близость.
— Пожалуй, все-таки-лучше уничтожить оригиналы…
Он показал ей письмо Шаламона.
— Вы нашли и это?
Она утвердительно и не без гордости кивнула.
— Забавно! Если Шаламон назначит министром внутренних дел какого-нибудь любознательного человека и тому придет в голову посмотреть секретные сведения о своем премьер-министре…
Он хорошо знал Доломье, когда-то тот был его подчиненным, а теперь ведал сыскным отделением на улице Соссе. Воспользуется ли Доломье приходом Шаламона к власти, чтобы получить место начальника Сюрте Женераль или даже префекта полиции?
Но все это было так незначительно!
— Раз уж вы знаете, где находятся все эти бумаги, то помогите мне…
В первой комнате она не обнаружила лишь двух тайников, и он с детской радостью показал ей, где они находятся.
— Так вы их не нашли?
Во второй комнате ей были известны все тайники, а в его кабинете она пропустила только один.
Если дежурный агент наблюдал за ними в окно, то, наверное, недоумевал: Президент и его секретарша, стоя у камина, бросали в огонь бумаги, которые взвивались в ярком столбе гудящего пламени.
— Мы должны сжечь и книги.
— Какие книги?
Значит, она не заглядывала в американское издание его мемуаров! Она поразилась, увидев страницы, исписанные заметками, и не могла понять, как он мог написать их тайком от нее.
— Не стоит жечь толстые переплеты, и не надо бросать в огонь по многу страниц…
Она отрывала страницы небольшими пачками и ворошила их щипцами, чтобы они быстрее сгорали. Все это длилось довольно долго. Пока она, сидя на корточках перед камином, бросала бумаги в огонь, он стоял позади нее.
— Мадам Бланш тоже? — спросил он, зная, что она его поймет.
Она и в самом деле поняла, утвердительно кивнула и прибавила после минутного раздумья:
— Ей ничего другого не оставалось…
Он немного помолчал в нерешительности.
— А Эмиль?
— С самого начала.
Другими словами, Эмиль сообщал на улицу Соссе обо всем, что он делал и говорил, еще в те дни, когда он был министром, а затем председателем Совета министров.
Разве он не подозревал этого всегда, он, считавший своим долгом устанавливать наблюдение за другими?
Было ли это наивностью с его стороны? Или он кривил душой, когда желал убедить себя в том, что представляет собой исключение из общего правила и что правило это его совершенно не касается?
— А Габриэла?
— С ней дело обстоит иначе. В Париже в ваше отсутствие к ней время от времени заходил полицейский инспектор и расспрашивал ее…
Он был на ногах слишком долго, и ему хотелось сесть в привычной позе в свое старое кресло — оно было родным и удобным, как старый халат, который надеваешь по возвращении домой.
Танцующие языки пламени жгли ему щеку и бок, но скоро все будет кончено. Локтем он задел безмолвствующий, отныне уже ненужный ему приемник и сказал:
— Возьмите и это…
Она не поняла или сделала вид, что не поняла, желая внести веселую нотку в сцену, которая ее угнетала.
— Вы хотите, чтобы я сожгла радио?
У него вырвался тихий смешок.
— Отдайте его кому хотите.
— Можно мне оставить его себе?..
Она вовремя удержалась, чтобы не прибавить: «На память».
Он понял, но не огорчился. Никогда прежде он не казался таким добрым, он напоминал сейчас одного из тех стариков, что сидят на солнышке на пороге дома где-нибудь в деревне или в предместье и часами задумчиво созерцают какое-нибудь дерево, птицу или облако…
— Я уверен, что Гаффе позвонил доктору Лалинду.
Теперь, когда он посвятил ее в свой секрет, она тоже могла быть с ним откровенной.
— Да. Он сказал, что вызовет его.
— Он очень испугался, когда увидел меня спящим?
— Он не знал, что вы приняли лекарство.
— А вы?
Она не ответила, и он понял, что не следует приставать к ним с вопросами. Ведь и они старались делать, что могли, как Ксавье, как Шаламон, как эта каналья Доломье.
С кем еще было связано слово «каналья»?
— Эта каналья…
Он никак не мог вспомнить, и тем не менее, когда у него в уме промелькнуло это слово, оно приобрело особый смысл.
Чье-то имя готово было сорваться у него с языка, но к чему делать усилие? Теперь, когда он окончил свой жизненный путь, все это его уже не касалось.
Можно было ни о чем больше не думать, и это вызывало странное ощущение, одновременно приятное и немного томительное.
Еще несколько вспышек пламени, несколько тлеющих страниц, которые рассыплются под щипцами на тонкие слои пепла, и все пути будут отрезаны.
Пусть Габриэла приходит приглашать господина Президента к столу. Он послушно последует за ней, сядет на стул, который подаст ему испуганная Мари, боясь, как всегда, что он упадет на пол. У него нет аппетита, но он будет есть, чтобы доставить им удовольствие. Он станет отвечать Гаффе, когда тот в семь часов приедет, может быть с Лалиндом, задавать ему докучные вопросы, он позволит им снова считать свой пульс и ляжет в постель, как обещал.
Он ни с кем не будет язвителен и перестанет отпускать колкости даже всегда чуточку напыщенному Лалинду.
С этих пор он вооружится терпением, заботясь лишь о том, чтобы не закричать, не позвать на помощь, когда настанет его последний час. Он должен встретить его в полном одиночестве, сдержанно, тихо.
Пусть это будет завтра, через неделю, через год — он будет ждать. И когда взор его упал на мемуары Сюлли, он прошептал:
— Можете поставить книгу на место.
К чему читать чьи-то воспоминания? Его уже не интересовала ни одна книга на свете, и дальнейшая судьба его библиотеки была ему совершенно безразлична.
— Так-то!
В конце концов, ничего драматического в этом не было, и он был почти доволен собой. В его серых глазах искрился даже лукавый огонек, когда он представлял себе, как отнесутся к этой перемене окружающие.
Увидев, какой он тихий и кроткий, разве не станут они грустно покачивать головами и шептаться за его спиной: «Вы заметили, как он сдает?» Габриэла, безусловно, прибавит: «Можно сказать, как свеча, угасает…» А все потому, что он перестал обращать внимание на разные пустяки.
— Вы спите? — внезапно встревожилась Миллеран, увидев, что он закрыл глаза.
Он покачал головой, взглянул на нее и улыбнулся от всей души, как если бы перед ним была не одна Миллеран, но все человечество.
— Нет, дружок.
И добавил после некоторого молчания:
— Нет еще…
Примечания
1
Герцог де Сюлли (1559–1641) — министр и ближайший советник короля Генриха Четвертого. (Прим. перев.)
2
Бурбонский дворец — здание палаты депутатов.
3
В Версальском дворце согласно конституции собираются раз в семь лет на совместное заседание (конгресс) обе палаты французского парламента для выборов президента республики. (Прим. перев.)
4
Hobby (англ.) — любимое занятие или развлечение.