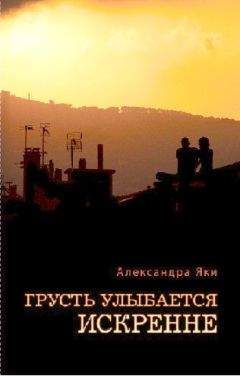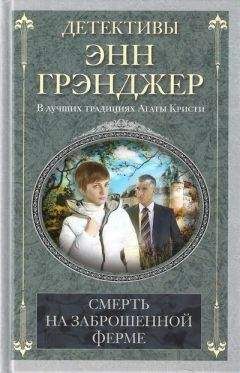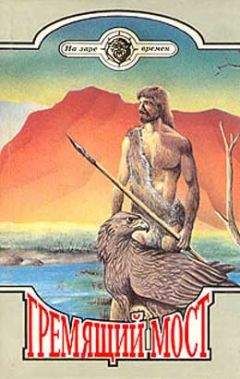Анатолий Ромов - Приз
— Ксата… Я хотел тебе сказать.
— Да.
— Мы должны быть вместе.
Что же он понимал под этим — мы должны быть вместе? Только одно — она должна уехать с ним. Да, уехать. Совсем — в Париж. Но это было бы немыслимым счастьем. Невозможным.
Она все поняла. Именно все — то, о чем он сейчас думал.
Дотронулась ладонью до его губ… Подбородка… Щек…
— Маврик…
Он повернулся к ней. Увидел ее глаза. Она улыбалась, и он увидел в ее глазах отражение счастья, они смотрели сквозь него, в пустоту.
— Давай сейчас… Не будем… говорить об этом. Хорошо?
— Хорошо.
Они уплыли. И в то же время он думал — не хотела же она, чтобы он жил здесь, в Бангу. Или — в столице? Она должна понять, что он не может оставить ее здесь. Не может. Как она дорога ему. Как дорога. Не может. Немыслимое счастье — чтобы она была ему так дорога. И все-таки он ответил «хорошо». Потому что сейчас, когда они лежат рядом, он понимает, что не нужно говорить об этом. И она понимает — что не нужно. Но она понимает гораздо больше. Она понимает все — даже то, что должна быть с ним. Понимает — до конца.
Но ведь что-то стояло за ее словами. За запинающимся, неуверенным «Не будем… говорить об этом». Не — будем — говорить — об — этом. Ксата не хотела уезжать. Не «не могла», а «не хотела», И это было совсем не потому, что она не могла оставить деревню. Что она не могла бы жить в Париже — потому что привыкла к деревне. Потому что ее не отпустили бы жители, так как этого не допускал обычай. Она могла бы уехать с ним — если бы он сказал обо всем Омегву. Омегву легко замял бы всю историю. Но — она не хотела. Не хотела… Не потому, что привыкла. Лучше бы он не понимал, лучше бы не догадывался, что дело было совсем не в этом.
Они лежали в зарослях, у озера, и он был счастлив.
— Ты уезжай, — тихо сказала Ксата. — Уезжай завтра. Ведь у тебя там… дела. А я приеду потом.
— Когда?
— Ну… потом.
Счастье. Да, это и есть — счастье.
— Ты не обманываешь?
— Нет.
Именно тогда и раздался этот крик — хриплый крик птицы. Он знал крики местных птиц и раньше уже слышал этот крик — похоже было, что кто-то с силой дует в большую полую трубку. Будто кто-то сильно дул в эту трубку, пытаясь свистнуть, — а получался только сиплый протяжный хрип. Ксата приподнялась — но он тогда не сразу связал ее движение с этим криком.
— Что ты?
Крик повторился, теперь он был ближе. Да, на этот раз уже Кронго был уверен — это кричала не птица.
— Ничего, — она оглянулась. — Мне… нужно отойти.
Только сейчас он наконец понял, что было это «другое». Это другое был Балубу. Кронго наконец понял, почему все у них происходило втайне, почему Ксата так боялась, что кто-то в деревне узнает об их встречах.
Он взял ее за руку, повернул — и она отвела глаза.
— Пожалуйста… Маврик…
— Я знаю, кто это.
— Пусти… — она осторожно высвободила руку. Она уходит — несмотря ни на что, несмотря на все, что было между ними.
— Это — Балубу?
— Маврик… — ее лицо искривилось, стало жалким. — Маврик… Ты… ничего не понимаешь. Это — совсем другое. Маврик, мне нужно отойти. Пожалуйста. Подожди меня здесь. Только никуда не уходи. Никуда. Слышишь?
Она скользнула в кусты, а он остался лежать, неподвижно глядя вверх, не видя ничего перед собой. Значит — это Балубу.
Что же было самым страшным — тогда, когда Ксата встала и скользнула в кусты? Тогда, когда он понял, кто издавал этот хриплый звук? Когда почувствовал, что она ушла к Балубу?
Самым страшным тогда было ощущение утраты власти. Ему казалось, что какая-то часть власти, его власти, именно — его, безраздельной власти любви, которую он так остро ощущал и которая тогда составляла основу счастья, — теперь, после того как Ксата скользнула в кусты, — уходит, исчезает. Он впервые понял, что до этого момента властвовал над Ксатой. Это было счастьем, легким, беззаботным счастьем любви. Он остро ощущал счастье властвовать — так же, как и она властвовала над ним, так же, как и она ощущала это счастье. Но вот раздался крик птицы, звук, полусвист, полухрип, чужой ему, лишний, ненужный, — и она ушла. Она понимала, что произойдет с ним — но все-таки выскользнула, оставила его, ушла туда, в лес, хотя он не хотел этого.
Но ведь он не знал, зачем ее вызывал Балубу. Не знал.
Пусть это была ревность. Он не придумал эту ревность, не звал ее, она появилась сама. Эта ревность вошла в него, раздавила, пронзила, стала его частью. И он не хотел ни о чем больше думать — тогда, когда лежал и смотрел вверх.
Он не хотел, чтобы она уходила к Балубу — даже на те несколько минут. Не хотел. Не хо-тел! И все-таки она ушла — понимая это. Он не хотел выслушивать ее объяснений, не хотел даже понимать, зачем она уходит в лес. Да, он ревновал. Ревновал — потому что разрушилась власть. Ревновал немыслимо, невыносимо… Он лежал, как каменный, ощущая страшную боль, глядя вверх, — и ничего не видел, не ощущал, кроме этой боли.
Но ведь в конце концов он должен был смириться с этим. Должен был! Он должен был понять, что это неизбежно. Но почему же эта неизбежность становилась в те секунды такой мукой? Он должен был понять, что его любовь к Ксате не может кончиться, исчезнуть — никогда, ни за что. Она не кончится, не прекратится — сколько бы он ни ревновал, что бы ни происходило, как бы она ни вела себя.
Она действительно вернулась через несколько минут. Вернулась и легла с ним рядом. Она лежала, положив руку ему на плечо, молча, ничего не объясняя ему. Да, он чувствовал — она не хочет ему сейчас ничего объяснять. Ни-че-го. Но ведь потом, когда он уедет, эти несколько минут могут превратиться в часы… Эти несколько минут власти Балубу над ней.
Именно тогда, именно в эти минуты, когда она лежала рядом, вернувшись, он вдруг понял, что это значит — любить ее. Именно тогда.
Он не знал, что сказать ей тогда, когда она лежала рядом. Не знал.
Нет, не было разницы между миром Ксаты и его миром. Он рассказал ей обо всем — об отце, о заговоре против Генерала, о Гугенотке, — и она поняла это. Она поняла это до конца, так же, как понимал он, — если не больше. Она поняла все тонкости, все, что было главным в заговоре. И встала на сторону отца, и настояла, чтобы Кронго скорей уехал, чтобы помочь отцу. Она никогда не была на ипподроме — но уже хотела увидеть его лошадей. Она уже знала их по именам, различала каждую из них в его рассказах. Он понимал — это значит, что Ксата почти решила, почти готова уехать к нему в Париж.
Сидя в самолете, глядя вниз, на облака, отделяющие небо от океана, он наконец понял остроту, с которой счастье становится реальностью. Счастье, его счастье, мучительное, выстраданное им, болезненное, найденное так случайно и так прекрасно, — вдруг становится чем-то еще, не только тем, что он ощущает в себе, — и от этого не делается менее прекрасным. Если Ксата будет с ним — счастье, оставаясь в нем, частью своей становится всем, что окружает его: вещами, предметами, делами, бокалом шампанского, самолетом, облаками, океаном.
Все было бы хорошо, если бы не появились эти тени. Если бы эти тени не напоминали о какой-то иной, непонятной ему связи, которой он не знал и которую не мог понять. Они появились один раз — когда он лежал на берегу озера и ждал Ксату. Они возникли в тишине, где-то на границе послеполуденной жары и преддверия прохлады, — возникли и исчезли, и больше он их никогда не видел.
Он лежал и ждал Ксату, он был весь наполнен этим ожиданием — и вдруг в тишине, в редких криках птиц что-то почувствовал. Да, он почувствовал тревогу. Сначала это было просто непривычное ощущение, ему что-то показалось. Он как будто уловил какое-то движение в кустах, что-то вроде легкого дуновения, напрягся, прислушался — нет, все было тихо. Никакого движения не было, ему наверняка почудилось. И все-таки ощущение чего-то постороннего, лишнего, ощущение тревоги осталось. Ощущение тревоги не прекращалось, оно росло и в конце концов заставило его встать. Он встал, прислушался — и тихо вошел в кусты. Сначала он хотел просто позвать ее, сказать: «Ксата» — но на секунду передумал. И все-таки сказал, не очень громко: «Ксата?» Он помнил, как не хотела она, чтобы кто-то знал об их встречах, как боялась этого. Если он говорил ей: «Ведь все равно ты уедешь со мной», она неизменно отвечала: «Да, уеду. Но пусть все узнают об этом потом, когда я уеду». И он каждый раз соглашался с ней, потому что знал и чувствовал, что это в любом случае будет счастьем.
Он прошел несколько шагов в кустах — и вдруг понял, что окружен. Он был сейчас окружен тенями, призраками, бесплотными видениями. Но это не испугало Кронго. Он увидел лицо в зарослях, которое безмолвно смотрело на него. Сначала он испытал даже что-то вроде удовлетворения, — значит, я не ошибся, почувствовав тревогу. Встретившись с ним взглядом, лицо не вздрогнуло, не пошевелилось. Это лицо казалось коричневым плодом, давно выросшим на тонкой ветке кустарника и ухитрившимся каким-то образом не согнуть ее. Молодое, безбородое, бесстрастное, лицо было чужим, незнакомым, Кронго никогда раньше не видел его в деревне. Лицо было таким неподвижным, что сначала даже не испугало его. Но что-то в этом лице заставило Кронго понять, что рядом, где-то совсем близко, есть такие же лица, такие же видения, — и они следят за ним. Он оглянулся — и увидел в зарослях еще одно лицо. Теперь уже — с редкой вьющейся бородкой, постарше. Потом — два рядом. Он пытался проникнуть взглядом сквозь листья — и разглядел блестящий коричневый торс, дуло и приклад автомата, повешенного на шею. Кронго подумал — почему же он не пугается? Вернее — испуг есть, но пока не трогает его, он где-то притаился, и Кронго рассматривает сейчас эти лица совершенно спокойно. Да — он спокоен, потому что эти лица сейчас ничем не выражают своей враждебности. Они глядели безучастно, в них не было заинтересованности. Больше того — они позволяли Кронго бесконечно, как ему казалось, и — безопасно разглядывать себя, ничем не отвечая на его взгляд.