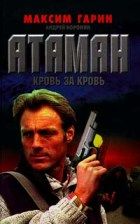Светлана Бестужева-Лада - Вычислить и обезвредить
Конечно, меня выпороли, причем жестоко. Но я чувствовал себя победителем: поступил так, как хотелось мне, а не этим сытым и благополучным буржуа. Это было мальчишеством, но доставило мне неизъяснимое удовольствие, и стало первым отчетливым воспоминанием в моей запутанной, сложной, изломанной жизни. Странно, правда? Ведь в детстве я в общем-то не испытывал никаких потрясений, даже крупных неприятностей у меня не было. Разве что вечная занятость отца и странная холодность матери по отношению ко мне, единственному ребенку. Но ведь это компенсировалось лаской и вниманием бабушки.
Со мной она всегда разговаривала только по-русски, хотя соотечественников-эмигрантов избегала. Не знаю, почему, то ли стыдилась того, что она — дворянка по происхождению и графиня в первом замужестве стала обеспеченной женой богатого французского торговца, то ли испытывала неловкость потому, что «низость» её теперешнего положения позволяла ей жить куда лучше, чем большинству княжеских и графских семей, обосновавшихся в Париже. В русскую церковь она ходила только по большим праздникам. Пока я был маленьким, брала меня с собой, но потом я взбунтовался и против этих походов, и против религии вообще, а бабушка была слишком мудрой женщиной, чтобы пытаться переломить мое упрямство. Естественно, в католический собор, прихожанкой которого была моя мать, я тоже не ходил. Во всяком случае после того как мне исполнилось десять лет. Еще один «бунт на корабле», не улучшивший отношений в нашей и без того не простой семье.
Отношения бабушки и жены моего отца никак не складывались. Со мной бабушка говорила только по-русски, но в присутствии невестки немедленно переходила на французский — безупречный, но безнадежно старомодный. Мать же презрительно фыркала и говорила только одно слово:
— Санкюлоты!
Долгое время я думал, что это — какое-то ругательство, и только в лицее узнал — так называли первых французских революционеров, а если дословно перевести на русский, то — голытьба. Нищие без роду и племени.
Нищие — да, но не безродные! Один раз я попытался что-то доказать, но получил от матери такую оплеуху, что зарекся выступать. Она и так считала, что сделала моему отцу величайшее одолжение — вышла замуж за него, русского, из милости к усыновленному французом. А тут ещё я…
Соседка обнаружила меня горько рыдающим в углу двора и, быстро выяснив, в чем дело, одной фразой разрушила мой и без того непрочный детский мир:
— Мачеха и есть мачеха. Родного сына пожалела бы…
В тот момент мне показалось, что жизнь кончена. Что я никогда уже не смогу ничему радоваться, ни с кем разговаривать. Моя мать — не моя мать. А кто же тогда?
Этот вопрос долго меня мучил, но задать его я не осмеливался до тех пор, пока не нашел случайно в чулане коробку со старыми фотографиями. На одной — миловидная тоненькая женщина смеялась, сидя на коленях у моего отца. И лицо у него было совершенно другое, не такое, каким я привык видеть его изо дня в день: доброе, открытое, любящее. С трудом дождался его возвращения из очередной поездки и спросил: кто это? К его чести, он не стал увиливать от прямого ответа.
— Это моя первая жена. Она умерла через год после свадьбы.
— Она была моей матерью? — задал я следующий вопрос.
Он промолчал, только лицо его болезненно передернулось.
— Это моя мать? — не отставал я.
Но момент откровенности уже миновал. Всю правду я узнал позже, и не от отца, а от бабушки, за несколько дней до её смерти. Вот этого времени я никогда не забуду, не смогу забыть. Семнадцать дней, показавшихся мне вечностью, я провел в душной, полутемной комнате возле постели умирающей и с бессильным страхом наблюдал за угасанием последнего по-настоящему близкого мне человека. Я ничем не мог ей помочь, и уже тогда понял, что самое страшное — это быть бессильным наблюдателем, сидеть, стиснув руки и зубы, сглатывать то и дело подступающие к горлу слезы.
«Мужчины никогда не плачут». Я ни о чем не мог думать, в мозгу проносились какие-то беспорядочные воспоминания, и лишь одно из них осталось со мной на всю жизнь: нельзя позволять судьбе брать над собой верх, нужно всегда и везде оставаться её господином.
За несколько часов до смерти бабушка вдруг пришла в себя, глаза её прояснились, она даже могла что-то связно говорить. Никогда не забуду, как она посмотрела на меня с бесконечной жалостью и прошептала:
— Один остаешься… Была бы жива твоя родная мать…
— Кто она была? — задал я давно мучивший меня вопрос, не слишком надеясь получить ответ. — Почему она умерла?
— Родила тебя — и умерла. Нельзя ей было рожать, врачи предупреждали… Сердце… А она никого не послушала… Она была русской, как мы все… Мой мальчик, в тебе нет ни капли французской крови… Постарайся теперь об этом забыть, если сможешь. А доведется когда-либо попасть в Россию — поставь свечку в часовне Иверской божьей матери, на Красной площади… За меня и за твою мамочку…. Твой отец её очень любил…
«А меня возненавидел, потому что я жив, а она умерла, — подумал я с тоской. — И уже поправить нельзя. Почему, ну, Господи, почему люди, которые меня любят, уходят из жизни один за другим, а те, кому я безразличен, живут?»
Бабушка умерла, как я теперь понимаю, ещё не старой женщиной — ей едва-едва исполнилось семьдесят лет. После её смерти отец с мачехой преподнесли мне первый сюрприз — объявили, что денег в семье едва-едва хватает на самое скромное существование, и поэтому мне придется уйти из университета и искать себе работу. Какую? Они об этом даже не задумывались — просто выбросили меня на улицу, а заодно и из своей жизни. При этом не особенно стеснялись в выражениях.
— Достаточно того, что я с тобой нянчилась восемнадцать лет, — отрезала та, которую я все ещё называл мамой. — Пора становиться самостоятельным, давно пора. Отец и так надрывается, чтобы свести концы с концами. Наверное, придется бросить наше дело.
Но я уже знал, что все это неправда. Отец работал не больше, чем всегда, а его дела шли даже лучше. Просто не стало той, которая меня по-настоящему любила, опекала и охраняла, а отцу и его жене я только мешал.
Я мог бы настоять на своих правах, потребовать долю наследства, как я потом узнал, бабушка кое-что мне оставила. Но тогда мне только-только исполнилось восемнадцать, я был домашним, не приспособленным к жизни мальчиком, поэтому сделал то, что сделал: хлопнул дверью и ушел. Ушел к тем, кто обещал мне помощь, поддержку и даже деньги для продолжения учебы в университете, к тем, кто называли себя анархистами.
Ах, какие замечательные лозунги они тогда выдвигали: «Все существующие понятия устарели и нуждаются в переосмыслении», «Священное — вот враг!», «Дерзнем!», «Все или ничего!». Как мне было хорошо и интересно в общежитии Нантера — нового студенческого города-спутника недалеко от Парижа! Там все звали друг друга на «ты», все было общим. Деньги появлялись неизвестно откуда и так же быстро исчезали, иногда устраивались настоящие пирушки, а иногда — голодали по нескольку дней подряд. Там никто не попрекал меня ни русским происхождением, ни «аристократическим гонором». В Нантере я познакомился с Дениз, просто поразившей мое воображение.
Впервые я увидел её на каком-то собрании, точнее, не увидел, а услышал. Все говорили одновременно, перебивая друг друга, путаясь во всевозможных теориях и цитатах, как вдруг раздался сильный, низкий голос, перекрывший остальных:
— Товарищи! Пока мы рассуждаем, буржуазия будет вынуждена прибегнуть к фашизму для подавления рабочего движения. Довольно болтать, пора действовать!
Говорила невысокая черноволосая девушка в огромных, закрывавших половину лица темных очках. Говорила монотонно, без эмоций, не жестикулируя, не повышая голоса. Единственное живое, что в ней было, — это неопределенная улыбка, улыбка презрительного превосходства абсолютно уверенного в себе человека. Большинство собравшихся смотрели на Дениз с раздражением, но мне она представилась ожившим символом Революции, где бы она ни происходила, бунта против буржуа и фашизма, бунта против всего, что я так искренне ненавидел. Но главное, она говорила о том, о чем я иной раз боялся даже подумать. Теперь-то я понимаю, сколько наивности было в этом бунтарстве, сколько позы и самолюбования. Но тогда…
— А мы действуем! — возразил ей один из присутствующих. — Мы, марксисты-ленинисты, считаем, что нужно не конфликтовать с профессорами и администрацией, а бросить всю эту мелкобуржуазную возню к чертовой матери, оторваться от своей среды, пойти на стройки, фабрики… Не руководить! Учиться у пролетариата его революционной стихийности, активным действиям…
— Ты называешь себя марксистом, — презрительно усмехнулась Дениз, — а несешь эту чушь о стихийной революционности пролетариата? Каждому, кто прочел хоть страничку Маркса, должно быть известно, что пролетариат как раз и является главным объектом влияния буржуазной идеологии!