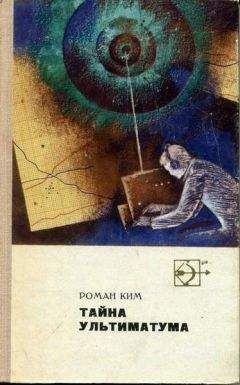Юлиан Семенов - Бриллианты для диктатуры пролетариата
— Палачи! — истошно кричал Никандров. — Опричники! Собаки! Чекистские наймиты!
Хмель еще из него не вышел. Под утро, прощаясь с Лидой Боссэ и ее липким спутником, которым она явно тяготилась, они заехали на вокзал и там выпили еще по стакану водки, поэтому чувствования Никандрова сейчас были особенно обострены и ранимы. Его и в России тяготило бессилие в столкновении с обстоятельствами; он даже вывел философию, смысл которой заключался в том, что человек — всегда и везде — бессилен перед обстоятельствами, он их подданный и раб. А восстанет — так сомнут и уничтожат. Дома он эту философию выстроил, проживая в мансарде, — на свободе, впроголодь, — но издавая время от времени книжки своих эссе; забытый критикой, но окруженный внимательной заботой почитателей — и паспорт-то он получил от комиссара, который с большой уважительностью говорил о его работах, особенно в области исторических исследований.
В том, что на его крики никто не реагировал, в том, что он ждал совсем другого — звонков издателей, номера в «Савое», заинтересованных звонков ревельских и аккредитованных здесь европейских журналистов, — во всем этом было нечто такое жестокое и оскорбительное, что превратило Никандрова в животное: он упал на холодный каменный пол и начал кататься, рвать на себе одежду, а потом истерика сменилась обморочной усталостью, и он уснул, голодно вырвав желчью и водкой, — ели мало, больше всю ночь пили…
Следователь политической части ревельской полиции Август Францевич Шварцвассер был человек мягкий и сговорчивый. От остальных коллег его отличала лишь одна черта — он был неутомимым выдумщиком и в глубине души мечтал сделаться писателем, автором остросюжетных романов, наподобие Конан-Дойля.
Именно к нему и попали бумаги, отобранные при обыске у Никандрова. Установив, что захвачен на квартире у Воронцова литератор, только-только эмигрировавший из Совдепии, Август Францевич было подписал постановление на его немедленное — с обязательным формальным извинением — освобождение, однако, когда филеры передали своему начальнику данные сегодняшней ночи, следователь призадумался и долго сидел на подоконнике, мурлыча мотив из «Цыганского барона». Задуматься было над чем: во-первых, убит Юрла, проведший весь вечер в обществе эмигрантов и поэтов, один из которых настроен пробольшевистски; во-вторых, Никандров, как выяснилось, был дружен с Воронцовым, который — и это ни для кого не составляло секрета — был лидером боевиков в русской монархической эмиграции; в-третьих, — и это больше всего удивило следователя, — как мог быть столь спокойно выпущен из Совдепии человек, который так дружен с лидером эмиграции. За эмигрантскими лидерами большевики следили особенно тщательно и прекрасно знали не только их родственников, но и всех друзей, а порой и просто знакомых. При этом Август Францевич особо выделил и покойного Юрла, убийством которого пока что занималась криминальная полиция; известный журналист в свое время отбывал каторгу в Якутии за социалистическую, правда несколько национально окрашенную, деятельность; позже, впрочем, отошел от движения, хотя это не мешало ему оказывать помощь — подчас финансовую, самую что ни на есть серьезную — эстонским леворадикальным оппозиционерам…
Идея, сюжет возникали в голове Августа Францевича неожиданно: словно бы появлялся пейзаж на фотографическом стекле, которое опущено в проявитель. Сначала полная белизна, потом затемнение, а после — поначалу осторожно, а затем все более рельефно вырисовывающийся пейзаж; лица Август Францевич фотографировать не любил, ибо всегда, даже за портретом жены, ему виделся тюремный «фас и профиль» и обязательно — отпечатки пальцев, сделанные жирно и неаккуратно.
Сведя воедино — неторопливо и обстоятельно — все известное ему, Шварцвассер придумал довольно стройную и весьма перспективную версию. Он знал уже о визите русского посла к президенту — об этом в секретной полиции узнавали немедленно; он знал, что Литвинов сообщил президенту точные данные о русской эмиграции, и в частности о Воронцове, которого в Москве считали врагом номер один в ревельских русских кругах; сходилось и то, что Воронцов, Юрла и Никандров, отчего-то отпущенный Москвой с легкостью необыкновенной за границу, провели вместе весь вечер накануне загадочной гибели журналиста. И все это прочно базировалось на предписании главы правительства задержать Воронцова и еще шестерых его наиболее близких товарищей, а потом, по прошествии определенного времени, выпустить, предписав тем не менее покинуть в ближайшее же время пределы Эстонской республики.
«Удобная комбинация для ЧК, — воодушевляясь, чувствуя впереди нечто интересное, сложное и запутанное, продолжал рассуждать Август Францевич. — Они внедряют своего человека в самую сердцевину белого движения. Чем Никандров не подходящая для этого фигура? Что ни на есть подходящая. И если я отберу у него подобного рода признание, тогда можно будет продолжить операцию и заявить Москве протест по поводу засылки своих агентов. Мы тогда сможем и впредь отметать все нападки Кремля по поводу белой эмиграции: вы сами ее плодите, а на нас за это валите вину».
Концепция показалась Августу Францевичу до того интересной, что он не стал перепроверять себя: вдохновение — мать успеха, и попросил конвой немедленно доставить к нему арестованного из третьего изолятора.
…Никандрова он встретил обворожительной, несколько даже кокетливой улыбкой, приказал подать чаю с лимоном, посетовав при этом:
— Когда мы входили в состав империи, чай был куда как дешевле и лучше качеством. Сейчас, знаете ли, Альбион дерет с нас три шкуры за индийские сорта, а налогоплательщики бранят за это наше бедное правительство.
Никандров, вперившись яростным взглядом в добродушное личико Августа Францевича, взорвался:
— При чем тут чай?! Я спрашиваю — на каком основании я арестован?! У вас что тут, Совдепия или правопорядок?! Это же возмутительно! Литератора российского швыряют без всякого повода в острог! Мировое общественное мнение удивится, узнав об этом!
— А почему, собственно, мировое общественное мнение должно узнать об этом? От кого?
— От меня! Я не бессловесен! Я литеру умею складывать не только в рапорты — я писать умею, писать!
— Ну, что же… Мне будет в высшей степени интересно читать ваши импровизы. Только на чем станете писать? И чем?
— Да что ж это такое?! Господи, во сне я, что ли?! — закричал Никандров. — Что происходит?!
— Если вы будете продолжать истерику, я прикажу вас посадить в карцер, — по-прежнему улыбчиво сказал Шварцвассер.
— Ах ты, сволочь розовая! — заревел Никандров. — Большевистская собака! Мало вас в Москве — вы и здесь нас терзаете?!
Не соображая уже, что делает, — сказалось нервное напряжение последних месяцев, пока он ждал паспорта, по ночам тоскливо и затаенно отсчитывая минуты и гадая, выйдет или не выйдет, чет-нечет, — Никандров схватил тяжелую чернильницу и швырнул ее в аккуратное, розовое личико маленького человека, сидевшего за столом. Август Францевич едва успел вскинуть руки, и это, вероятно, спасло ему жизнь. Не смягчи он удар — граненое стекло рассекло бы ему висок; а так чернильница оглушительно и до зелени жутко ударила его в лоб, кровь смешалась с черной тушью, Шварцвассер пронзительно закричал, Никандров кинулся к нему, желая помочь, испугавшись того, что сделал, и отрезвел до липкой, потной безысходности.
Вбежавшие коллеги и стражники кинулись на Никандрова, повалили его и начали бить, тупо и бессмысленно, поначалу не больно, из-за того, что било слишком много народу, но потом, связанного, его уволокли в подвал и там изуродовали так, что он поседел и охрип.
«Москва. Кедрову. Передаю краткую запись беседы советника польской миссии Ярослава Ондреховского с посланником Литвы И. Балчунавичасом. По словам Ондреховского, в настоящее время положение Стеф-Стопанского не прочное, поскольку полгода тому назад был назначен новый заместитель шефа второго отдела генштаба бригадный генерал Пшедлецкий. Этот генерал подчеркнуто ставит на первое место в характеристиках незыблемость семейных уз, набожность, трезвость. „Поскольку Стопанский холостяк, жуир, пьяница, который не верит ни в бога, ни в черта, — продолжал Ондреховский, — то его положение в последнее время стало неустойчивым, хотя разведчик он первоклассный, но нового генерала не волнуют таланты, его волнуют характеристики”. Он даже сказал как-то: „Талант нужен в балете, в разведке он либо мешает, либо вредит и всегда настораживает”. Ондреховский считает Стопанского верным сторонником парижской ориентации, хотя в последнее время он несколько раз говорил о том, что русская угроза недооценивается никем на Западе.
Роман».
В Москву Воронцов приехал вечером. Моросил дождь, неожиданно теплый, грибной, с острым запахом прели и горной, синеватой чистоты. Воронцову всегда казалось, что горная чистота имеет свой особый запах — только-только выловленной форели. Он испытал это на Кавказе: они с покойным братом поехали осенью шестнадцатого года, когда Виктор Витальевич после ранения лечился на водах в Пятигорске ловить форель с Корнелием Уваровым, чиновником по особым поручениям при наместнике. Брат и Уваров расположились на траве, много пили, смеялись, а Виктор Витальевич ловил форель: без поплавка полагаясь только на руку и обостренное, с детства очень резкое, зрение. Первая форель оказалась самой крупной. Он подсек ее, рыба прорезала своим трепещущим, алюминиевым, стремительным телом голубоватый воздух ущелья и ударила его по лицу — он не успел подхватить ее растопыренной ладонью. И тогда-то он ощутил этот запах горной, неповторимой чистоты. Запах этот быстролетен, скорее даже моментален: не пройдет и трех минут, как форель потеряет этот аромат ледяного, с голубизною, потока, неба, водопадов…