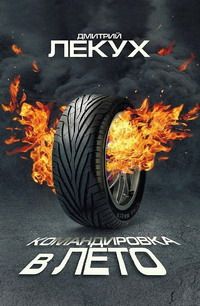Дмитрий Лекух - Командировка в лето
— Ну, тогда… на чем я остановился?
Глеб невольно заржал:
— На унитазе. Все-все, Сань, не дуйся, уж больно смешно вышло… Рассказывай.
— Ну, так вот, посидел я, подумал… Дела свои сделал, пару сигарет выкурил. Начинаю вставать, а меня кто-то оттуда за конец — хвать!!! И не отпускает ни в какую…
— Откуда — оттуда?
— Откуда-откуда… Из унитаза!!!
Глеб чуть кофе не подавился.
— Ты что, ёбнулся?!
— Во-во, я вначале тоже так подумал. Потом снова подниматься начал, а он — опять. Схватил и не пускает…
— За что схватил?
— За член!!! — Сашка неожиданно разозлился. — Ты чем слушаешь-то, придурок?!!
Глеб осторожно, пытаясь не расплескать, отставил кружку с кофе в сторону.
— И что дальше?
— Что-что, ничего! Сижу, думаю… Потом опять попробовал — не пускает ни фига, плотно так обхватил… Я уж и маму-покойницу вспомнил, и что пить больше никогда не буду, поклялся, а он — ни в какую… И посмотреть боюсь…
Глеб сглотнул надвигающийся смех:
— Чего боишься-то?
— Чего-чего… Ты бы, можно подумать, не испугался, если б тебя снизу из унитаза кто-то за член тащил… Капец. Это или белка собственной персоной, или просто фильм ужасов какой-то…
Сашка нервно закурил, поблагодарил кивком головы официантку, принесшую заказанный коньяк, осторожно принюхался к запаху драгоценной жидкости.
Глеб не выдержал:
— Ну и что?
Художник поморщился.
— Да ничего особенного. Два часа просидел в холодном поту, всех знакомых покойников вспомнил… Их у меня немало набралось, сам знаешь. Даже курить не мог…
— И?..
— И все-таки посмотрел. А чего делать-то оставалось…
— И что там было?
Сашка неожиданно покраснел.
На памяти Глеба подобное случалось — ой, как нечасто.
— Да понимаешь, я, когда заснул, гондон с члена снять забыл… А когда гадил по-крупному, то и пописал заодно, естественно. Вот его и раздуло… А унитазы-то здесь старые, с узкой трубой, вот он в стенки и уперся, как пробка. Я встаю, а он не пускает…
Глеб, на беду свою, как раз в этот момент сделал глоток кофе.
Точнее, не сделал.
Только в рот набрал.
Художник, бедолага, еле увернуться успел.
А то, в придачу ко всем бедам, его б еще и кофе оплевали.
А Ларин, высочив на улицу, ржал так долго и неистово, что скорее всего разбудил всех немногочисленных обитателей бывшей партийной здравницы.
Сашка наверняка обиделся смертельно, но поделать с собой Глеб ничего не мог.
В его жизни бывало немало смешных историй.
Но эта — лучшая.
Бедный Художник…
Глеб отсмеялся и пошел извиняться и отпаивать Сашку коньяком. Извиниться, по идее, следовало сразу и за то, что он почти наверняка станет клятвопреступником.
Не рассказать это своим приятелям он просто не сможет.
Это было бы совершенно необъяснимой жадностью, глупостью и вообще — настоящим преступлением против человечности…
Ну, да ладно.
Зачем добивать парня…
Ему и так херово.
Глава 17
Улицу «откатали» неожиданно быстро.
Горожане, от геройского вида дедов до симпатичных девчушек, оказались людьми словоохотливыми и мыслящими, да и говорящими на удивление связно.
Достаточно было задать пару-тройку наводящих вопросов — и пиши монолог для исходника.
Потом — режь не хочу.
Хоть монтируй, хоть перемонтируй.
Отработали.
Заскочили заодно и в порт, поснимали рыбаков на пирсе.
Экзотика!
Рустам предложил под шумок проехаться и в «Шератон», поснимать там — как-никак символ возрождающейся всесоюзной здравницы, — но Глеб от этого дела решительно отказался.
Во-первых, Князь обещал сначала договориться с шератоновским генеральным (а такие вещи лучше и впрямь согласовывать), ну, а во-вторых, спать хотелось неимоверно.
В конце концов, на курорте мы или не на курорте?
Начальство обещало командировку в лето.
Обещало?
Вот пусть теперь и терпит…
Короче, сейчас наскоро перекусываем где-нибудь в городе, и — по личному плану.
Лично он, Глеб Ларин, собирается ложиться спать.
Сладко так.
С прихрапом и присвистом.
А остальные могут хоть на ушах стоять. Самое главное — к завтрашнему утру быть в форме.
Железно.
Мэр из Москвы вернуться должен.
Перекусить решили в небольшом, но уютном придорожном ресторанчике, по весенне-несезонному времени абсолютно, прямо-таки первозданно пустом.
По крайней мере, кругленький хозяин-армянин встретил их просто как любимых родственников, с распростертыми объятиями.
Быстренько заказали по порции домашнего сыра, солянке и шашлыку и приготовились ждать, потягивая холодное пивко.
Ничего особенного, а ведь приятно, черт его подери…
В ресторанчике тем временем стало немного оживленнее. Заскочили две толстые неопрятные тетки, судя по разговорам — челночницы с только что прибывшего из Турции парома.
Самый дальний столик в углу заняла троица угрюмых, совершенно бандитского вида кавказцев в золотых перстнях на давно не мытых пальцах — эту породу Глеб ненавидел даже не с Чечни.
С Карабаха.
Там на эту мразь насмотрелся достаточно.
Так, что до сих пор тошнит…
В противоположном углу о чем-то ворковала влюбленная парочка: молодой розовощекий и широкоплечий старлей, природный русак с десантными курицами на петлицах, и очаровательная худенькая девушка-армянка с золотыми волосами и огромными карими глазами, вместившими, казалось, всю мудрость и боль древнего, много чего повидавшего народа. Девушка время от времени опускала взгляд на безымянный палец правой руки, украшенный тонким золотым ободком, и ее лицо начинало светиться такой тихой глубинной радостью, что становилось понятно — розовощекий старлей составляет смысл ее существования.
Глеб присмотрелся: безымянный палец правой руки десантуры украшал точно такой же ободок.
Как всегда, при виде чужого счастья Ларина охватил приступ щемящей тоски — ему ли не знать удивительную непрочность радости человеческой?
Куда будет твоя следующая командировка, старлей?
В Чечню?
В Среднюю Азию?
На границу со сваливающейся в беспросветный бандитский беспредел Грузией или с по-прежнему не замирившейся Абхазией?
Или ближе к Крымскому перешейку, где, кажется, опять начинается никому не нужная истерика, как с нашей, так и с украинской стороны.
Если УНСОвцы договорятся с татарскими радикалами, а к этому все, похоже, идет, там заварится такая каша…
Потому что тогда эти твари начнут резать этнических русских.
А у нас тоже достаточно горячих голов.
И что тогда?
Плохо тогда будет.
Очень плохо.
Так плохо, что перманентно тлеющая Чечня покажется детскими играми в песочнице.
Мы это все, увы, уже проходили…
Будь ты проклято, первое десятилетие двадцать первого века от Рождества Христова…
И будь ты счастлив, старлей.
И ты будь счастлива, девочка.
Слишком хорошо я помню свою случайную пулю, полученную в рядовой перестрелке в Карабахе, куда меня в очередной раз занесла лихая журналистская судьба.
Дикую пульсирующую боль, толчками вытекающую из меня кровь, отсутствие обезболивающих в местной больнице и удивительно красивую сорокалетнюю армянку-хирурга, державшую меня за холодную потную руку и шептавшую мне: «Цавет танем».
«Возьму твою боль».
Я не хочу брать твою боль, девочка…
Устал.
Я не хочу, чтоб тебе было когда-нибудь больно…
Глеб очнулся.
Горячего пока так и не принесли, Сашка в виде компенсации уже успел заказать бутылку водки и теперь деловито разливал ее по стаканам.
Поехали.
Глеб выпил и отправился в туалет — пиво подпирало.
А там его ждал очень неприятный сюрприз.
Из тех, что подкрадываются незаметно.
Пока он мыл руки, кто-то не очень сильно, но достаточно резко ударил его рукояткой пистолета по затылку.
Настолько не сильно, что он даже почти не потерял сознания.
Но только — почти.
Когда Ларин пришел в себя, он стоял, припечатанный лицом к холодной кафельной стене, а руки его были заломлены за спину.
Кавказцы, понял Глеб.
Больше некому.
— А теперь, журналист, слушай сюда, — прошептал-прошипел за его спиной низкий гортанный голос. — Ты сейчас соберешь свои манатки и уедешь в свою Москву. Навсегда. А не уедешь сейчас — мы тебя там потом найдем.
И снова резкий, на этот раз куда более ощутимый удар.
Ослепительная вспышка в мозгу.
И темнота…
Мучительным усилием воли он не позволил себе отключиться, но ноги все-таки не выдержали, подвели, суки, подкосились… Глеб упал на заплеванный и местами залитый мочой пол, и подняться получилось у него, увы, не скоро.
По крайней мере, твари ушли.