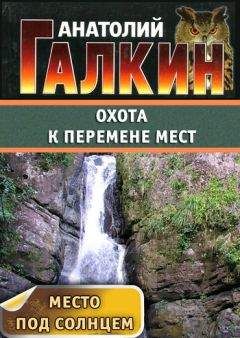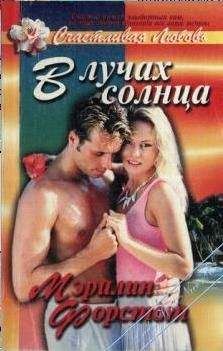Юлиан Семенов - Нежность
— Пилюли давайте.
…Цок-цок, цок-цок, цок-цок… Перестук копыт, словно музыка. Чубчик у извозчика подвитой, ржаной цветом.
— Сейчас он петь станет, — шепнула Сашенька, — когда я сюда ехала, — он так пел прелестно.
— «Вдоль да по речке, вдоль да по Казанке»?
— Нет. «Зачем сидишь до полуночи у растворенного окна…»
— «Зачем сидишь, зачем тоскуешь, кого, красавица, ты ждешь?» Ни одного прохожего на улицах.
— Что ты, Максимушка, вон люди! Видишь, сколько их?!
— Никого я не вижу, и не слышу я ничего…
— А цок-цок, цок-цок слышишь?
— Дай руку мне твою. Нет, ладонь дай. Она у тебя еще мягче стала… Я ладони очень люблю твои. Я, знаешь, ночью просыпался и чувствовал твои ладони на спине, и глаза боялся открыть, хотя знал, что нет тебя рядом… Это страшно было — то я папу видел рядом, живого, веселого, а то вдруг ты меня обнимала, и я чувствовал, какие у тебя линии на ладонях и какие пальцы у тебя — нежные, длинные, с мягкими подушечками, сухие и горячие… А ты меня во сне чувствовала?
Цок-цок, цок-цок…
— А еще, знаешь, что он пел, Максимушка? Он еще пел «Летят утки, летят утки и два гуся…».
— Ты почему не отвечаешь мне, Сашенька?
— Я и не знаю, что ответить, милый ты мой…
— Сами-то из Петербурга? Или столичная фитюля? — поинтересовался доктор Петров, пряча деньги в зеленый потрепанный бумажник.
— Прибалт.
— Латыш?
— Почти…
— А по-русски сугубо чисто изъясняетесь.
— Кровь мешаная.
— Счастливый человек. Хоть какая-никакая, а родина. Что в Ревель не подаетесь?
— Климат не подходит, — ответил Исаев, пряча в карман рецепт.
— Дождит?
— Да. Промозгло, и погода на дню пять раз меняется.
— Пусть бы в Питере погода сто раз на дню менялась, — вздохнул доктор, — помани мизинцем, бросился б, закрыв глаза бросился бы.
— Сейчас начали пускать.
— Я изверился. Сначала «режьте буржуя», потом «учитесь у буржуя», то продразверстка, то «обогащайтесь»… Я детей вообще-то боюсь, милостивый мой государь, — шумливы, жестоки и себялюбивы, а коли дети правят державой? Вот когда они законы в бронзе отольют, когда научатся гарантии выполнять, когда европейцами сделаются… А возможно это лишь в третьем колене: пока-то кухаркин сын университет кончит… Кухаркин внук править станет державой — в это верю: эмоций поубавится, прогресс отдрессирует. Мой тесть-покойник, знаете ли, британец по паспорту, хотя россиянин — нос картошкой и блины на масленую руками трескал, — так ведь чуть не из пушек палили, когда в Питер приезжал. Любим мы чужеземца, почтительны к иностранцу… В Австралии паспорт, гляди, получу, фамилию Петров сменю на Педерсон — тогда вернусь, на белом коне въеду. «Прими, подай, пшел вон» — простят: иностранцу у нас все прощают…
На улице Исаев ощутил тошноту, и перед глазами встали два больших зеленых круга: они были радужные, зыбкие, словно круги луны во время рождественских морозов в безлесной России. «Такая была луна, когда мы ехали с отцом из Орска в Оренбург, — вспомнил Исаев, — он держал меня на коленях и думал, что я спал, но продолжал мурлыкать колыбельную: «Спи, моя радость, усни, в доме погасли огни, птицы уснули в саду, рыбки уснули в пруду, спи…» Потом он мурлыкал мелодию, потому что плохо запоминал стихи, и снова начинал шептать про уснувших в саду птиц… Если бы он был жив, я, наверное, смог бы сейчас уснуть. Я бы заставил себя услыхать его голос, и я бы знал, что есть на свете человек, который меня ждет. Я бы так не сходил с ума — от ожидания, веры, неверия, надежды и безысходности».
Аптекарь, повертев рецепт доктора Петрова, вздохнул:
— Отдаю вам последнюю упаковку, сэр. — Старый китаец говорил на оксфордском английском, и он показался Максиму Максимовичу каким-то зыбким, словно бы радужным, вроде тех кругов, что стояли в глазах, нереальным и смешным. — Восхитительный препарат, некий сплав тибетской медицины, рожденной пониманием великой тайны трав, и современной европейской фармакологии.
— Где вы так выучили английский?
— Я тридцать лет работал слугой в доме доктора Вудса.
— А сколько вам сейчас?
— Я еще сравнительно молод, — улыбнулся аптекарь, — мне всего восемьдесят три, для китайца — это возраст «Начинающейся Мудрости».
— А сколько бы вы дали мне? — спросил Исаев, бросив в рот пилюлю из упаковки препарата сна.
— Мне это трудно сделать, — ответил аптекарь. — Все европейцы кажутся мне удивительно похожими друг на друга… Просто-таки одно лицо… Лет сорок пять?
— Спасибо, — ответил Исаев и проглотил еще одну пилюлю. — Вы ошиблись на семнадцать лет.
— Неужели вам шестьдесят три?
— Мне двадцать восемь.
— Твое окно на пятом этаже, с синими занавесками?
— Ты как это определил, Максимушка?
— Определил вот…
— Тебе писал кто об этом?
— Никто не писал. Но ведь такие занавески ты во Владивостоке сшила, когда я из Гнилого Угла переехал на Полтавскую, — синие в белый горошек и со сборочками по бокам.
— «Со сборочками». С оборочками… Я никогда от тебя раньше этого слова не слыхала, и сама стыдилась вслух произносить при тебе.
— Почему, Сашенька?
— Не знаю. Мы ведь каждый друг друга себе придумываем, чего-то в этом своем придуманном знаем, чего-то не знаем, и постепенно того, изначального, которого полюбили, начинаем забывать и возвращаемся в себя, на круги своя. Наверное, мужчину, которого любишь, надо всегда немножко бояться: как бы он не ушел, как бы в другую не влюбился, а женщины глупые, они сразу замуровать несвободою его хотят, а потом устают от спокойствия, словно победители в цирковых поединках.
— Лестница какая темная.
— Мальчишки лампочки вывинчивают.
— Ты почему так тихо говоришь?
— Боюсь тебя.
— Пива, пожалуйста. Белого. Холодного. Самого холодного.
Владелец этого маленького немецкого бара приносил пиво Исаеву сам — он всегда садился к нему за столик, и они говорили о Германии: Карл Ниче был родом из Мюнхена, а там Максим Максимович прожил с отцом пять лет.
— В такую жару лучше пить чуть подогретое пиво, майн либер Макс. Вы можете простудить горло, если в такую жару станете пить ледяное пиво. Что вы такой синий? Хвораете?
— Здоров, как бык, Карл. Немного устал.
Два мальчика сели возле лестницы, которая вела в полуподвал, и крикнули — словно чтецы эстрадных куплетов — на два голоса:
— Кельнер, пива!
— Русские, — сказал Карл шепотом, — сейчас потребуют водки и черных сухарей… Даже худенькие, даже молодые и воспитанные русские — все равно свиньи. Сейчас я вернусь, если позволите…
Он поднялся из-за стола и крикнул в подвал, опершись на перила лестницы:
— Два пива, поживей!
«Интересно, эти мальчики меня подхватили в аптеке или они ждали, когда я выйду от доктора? — подумал Исаев. — Наверное, они все-таки меня ждали возле дома врача. Но я не видел, как они вели меня. Плохо дело-то, а? Совсем плохо…»
Она думает, что я сплю, — понял Исаев. — Господи, неужели я и ее обманываю этим моим ровным дыханием и тем, как я опустил руку с кровати и вытянул шею… Я вижу себя со стороны — даже когда сплю. Вот ужас-то. И если я сейчас скажу ей, что я чувствую, как она сидит рядом со мной и смотрит на мое лицо, и как у нее пульсирует синяя жилка возле ключицы, и как она держит левую руку, прикрывая грудь, и сколько боли в ее глазах, я стану последним негодяем, потому что она может решить, что я смотрел на нее сквозь полуприкрытые веки. А может, я смотрю на нее сквозь полуприкрытые веки? Нет. Глаза мои закрыты, просто я вижу ее, потому что я приучен чувствовать все то, что рядом. Я думал, что это было со мной только там, за кордоном, я думал, что дома это уйдет, и я снова стану обычным человеком, как все, и не будет этой постоянной напряженности внутри, но, видимо, это невозможно, и я навсегда останусь таким, который верит только себе и еще двум связникам — Розе и Вальтеру, и больше никому. Мне надо обмануть ее, надо как-то неудобно повернуться и открыть глаза, но не сразу — чтобы не испугать ее, а постепенно: сначала потянуться, потом что-то забормотать, а уже после — рывком — сесть на кровати и тогда лишь открыть глаза. Она за эти мгновения успеет натянуть на себя простыню, она обязательно натянет простыню и вытрет глаза — она же плачет.
Последнее время Исаев жил в отеле на набережной, и все окна его номера выходили на порт, и он подолгу сидел на подоконнике, разглядывая суда из России. Сначала он приходил в порт и стоял возле пирса, где швартовались советские корабли. Но после того как он заметил рядом с собой двух мальчиков из «Союза освобождения», которые начинали разглядывать моряков тогда, когда Исаев оборачивался к ним, он в порт ходить перестал. «Береженого кое-кто бережет», — говорил ему охотник Тимоха, опасаясь всуе поминать имя господне, ибо красные в этом деле — «чугун чугунами, да еще смех подымают».