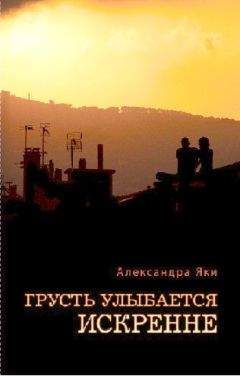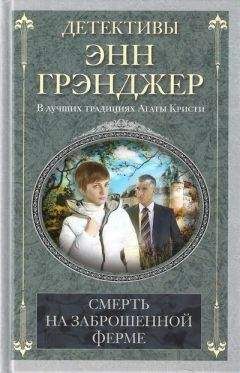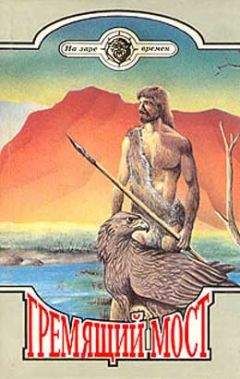Анатолий Ромов - Приз
— Мсье Кронго? — европеец соскочил с «джипа». Ему не больше двадцати, на гладкой коже впалых щек, под острым носом свалялся юношеский пушок. — Лейтенант Душ Сантуш, командир патрульной роты. — Душ Сантуш, улыбаясь, махнул рукой, и к нему подошли еще двое. — Мсье Кронго, мы приданы вам для охраны объекта. Попутно выполняем задачу конвоирования военнопленных.
Вдоль стены ипподрома сидела длинная вереница оборванных африканцев. Все они держали руки за головами.
— Будут какие-нибудь указания? — в глазах Душ Сантуша сквозила собранность.
Почти на каждом военнопленном Кронго видел следы побоев. Чья-то рассеченная скула. Красный наплыв на лиловом.
— Не смотрите так, мсье Кронго, — лицо Душ Сантуша искривилось. От этого он сразу стал старше лет на пять. — Отца… Подвесили его на двух сучьях… Вырезали ему…
Лейтенант до крови закусил губу. Ближний к ним военнопленный отвернулся, будто боялся, что его начнут бить. Душ Сантуш жалко, по-детски сдерживался, чтобы не заплакать.
— Вы понимаете, что?
На его усиках висел пот. Военнопленный — тот, что отвернулся — теперь неподвижно смотрел на Кронго. Все лицо военнопленного было разбито, губы превратились в месиво, но Кронго узнал эти глаза, эти застывшие изогнутые брови. Да, его забрали в армию — совсем недавно. Нос, похожий на крышу пагоды, с вислыми краями.
— Мулельге?
Военнопленный не шевельнулся. Один из конвойных поднял автомат.
— Господин Душ Сантуш, — Кронго попытался вспомнить. — Господин Душ Сантуш, это мой старший конюх, Клод Мулельге. Он мне нужен.
— Поднять! — рявкнул Душ Сантуш.
Конвойный махнул автоматом. Мулельге встал. Странно — почему Кронго думает сейчас не о том, что тело Мулельге иссечено, а о том, что лошади спасены? Теперь есть на кого оставить конюшни.
— Вы можете взять его, если ручаетесь, — Душ Сантуш отвернулся: желвак у его скулы двинулся. Конвойный вопросительно посмотрел на него. Поднял одну бровь. — Отдай, Поль!
Мулельге тупо смотрел на Кронго. Уловив кивок, двинулся за ним. Они шли по центральному проходу главной конюшни. По звукам Кронго чувствовал, что конюшня неспокойна, слышался частый стук копыт, шарканье. Лошади застоялись.
— Здесь.
Мулельге заученно остановился. Не глядя на Кронго, открыл дверь под табличкой «Альпак». Кронго видел, что Мулельге весь дрожит, его недавно били.
— Мулельге, поможете мне… набрать людей… Завтра…
Мулельге кивнул.
— Как вы себя чувствуете? Вам плохо?
Кронго показалось — звякнуло где-то, стукнуло. И пропало. Лоснящаяся коричневая шея Мулельге напряглась. На ключице неторопливо бьется толстая набухшая жила. Это понятно только африканцу. Ньоно привязывают провинившихся к муравейнику. Они находят преступников везде, в любом городе, заматывают синим бинтом рот и бегом несут в джунгли. Тело преступника и срубленное дерево составляют одно целое. Сухой стук ствола, непонятный белому.
Альпак, повернувшись, смотрел на Кронго. В темных глазах стояла доброта. Черные подтеки под глазами рябели капельками слизи. Альпак дернулся, когда Мулельге попытался накинуть уздечку. Волна гладкой шеи дрогнула, движение мышц возникло — и уплыло к широкой груди.
— Все хорошо, — сказал Кронго.
Альпак чуть присел на задние ноги, дрогнув длинными черными пястями… У него идеальная спина — короткая, прямая, с отличными почками. Круп с еле заметной вислинкой.
— Мулельге, вы понимаете, что иначе нельзя? Мы должны спасти лошадей.
Нос Мулельге, похожий на крышу пагоды, был покрыт засохшей кровью.
— Можно выводить? — Увидев, что Кронго ждет ответа, Мулельге добавил: — Месси Кронго, я понимаю.
— Хорошо, веди.
Копыта Альпака зацокали в проходе. Культ лошадей, скачки, бега привезли в Африку белые. Черному непонятна любовь к лошади европейца — любовь к любой лошади. К любой собаке, кошке. Черные не понимают такой любви. Можно любить какую-то лошадь, но не всех лошадей.
Мулельге, чмокая, оттягивал уздечку в сторону. Солдаты Душ Сантуша сидели и лежали в центре ипподрома, около дорожки. Военнопленные сгрудились понурой толпой у трибун; рядом курили два белых автоматчика.
— Конек, а? — сказал веснушчатый солдат с облезлым носом.
Альпак дернул головой, Мулельге повис на уздечке. Кронго казалось, что черные изможденные лица ненавидят его. Они пропускают его сквозь строй. Глаза навыкат… Лиловые губы в трещинах…
Пятилетний Кронго висел на руках матери. Только что кончился заезд. «Можешь потрогать». Губы матери улыбаются. Перед ним потный шершавый круп. Он бьется под ладонью, дышит, колется, живет. «Ты не боишься лошадки?» Он не ответил матери. Он вцепился в круп, как в волшебный подарок. Уже тогда он понимал в лошади больше, чем мать, и видел то, что для нее было скрыто. Отец — с кривой улыбкой, пляшущий в седле, добрый чужой человек в жокейской шапочке. Молодой, белозубый… Все это промелькнуло — и исчезло.
Да, сейчас, когда Мулельге выводит Альпака, когда лежат и сидят вокруг солдаты, снова возникла мысль — тягостная, ненужная. Кронго подумал о том, что он все-таки не должен был ехать сюда. Что его просто потянуло… Надо было остаться в Европе. Но зачем он об этом думает. Он ведь может придумать тысячу оправданий тому, что случилось.
Через день он снова отправился к озеру. Ему вдруг показалось, что желание увидеть Ксату стало другим, переменилось, стало уже не мучительным, болезненно-непреодолимым, а легким, почти — будоражащим, почти придающим силы. Сначала ему казалось, что он уже устал от этого желания, даже — оно причиняет ему тупую боль. Теперь он понимал, что это желание нужно ему, необходимо. Он уже решил преодолеть себя, пойти в деревню и просто спросить, где живет Ксата. Просто — найти ее.
Поэтому, пробираясь сквозь заросли, почти забыв о возможности встретить Ксату именно здесь, наедине, как он хотел, — он, увидев у самой воды ее темно-голубую накидку, не сразу поверил, что это она. Но Ксата повернула голову — и он оказался рядом.
Ксата смотрела на него со странным, легким напряжением — и одновременно с насмешкой. В этом напряжении, в этой насмешке он почувствовал какое-то обещание, ожидание чего-то, что может случиться, — обещание, о котором он даже не смел подумать.
— Здравствуйте, сударь, — еле заметно поклонившись, сказала она. — Как спали?
Вдруг он понял, не веря еще себе: в этом шутливом поклоне, в этом кривлянье как раз и было обещание. С трудом понимаемый им намек — именно в этом кривлянье, в этом насмешливом и одновременно пытающемся что-то скрыть: «Здравствуйте, сударь».
Он вдруг понял — все его опасения, все страхи, что он ее не встретит, были напрасны. Но она уже отбросила свой шутовской тон, она стояла, держа у горла накидку, внимательно изучая его. Нахмурившись, будто пытаясь что-то разглядеть в нем, в его глазах, в движениях его лица. Он понял: в этом взгляде живет сейчас напряженная, мучительная искренность — но ведь искренность и есть обещание. Но этого не может быть, подумал он. Но это сейчас не удивляет его, он воспринимает это как должное. Он видит сейчас красоту Ксаты — удивительную, неповторимую. Видит соразмерность ее лица, ту же прозрачную глубину глаз. Эта глубина и эта соразмерность остались такими же, какими были тогда, когда Ксата сидела в хижине. И снова он ощутил сладостное чувство, что-то обещающее ему, за которым обычно должен был следовать испуг, — и понял, что в нем уже нет испуга.
Но все это он ощутил в доли секунды — и это как будто ощутил кто-то другой, который одновременно жил в нем отдельно, — сам же он как будто продолжал игру, которую она предложила. И продолжал с удивившей его легкостью… Беззаботно, просто — так, будто он всю жизнь был готов именно к этой игре и именно к этим словам.
— Здравствуй… те, сударыня.
Она засмеялась. Сняла накидку и оказалась в купальнике — два лоскутка материи, которые почти не прикрывали ее тела.
— Я видела, как вы ходили здесь вчера… сударь. И позавчера.
Он помедлил — его по-прежнему удивляла возникшая в нем сейчас легкость, собственная готовность бесконечно продолжать этот разговор.
— Ходил — сударь.
— Хорошо. Ходил, сударь, — она подстелила накидку и села.
Подумав, подвинулась. Полувопросительно повернулась к нему — и он с нежностью и одновременно с болью и раздражением увидел, как прекрасно, как по-детски доверчиво раскрылись ее губы, прежде чем она сказала:
— Садись?.. Я подвинусь.
Ему казалось — в своих мечтах, в желании встретиться с ней он преувеличивал ее красоту. Но сейчас он увидел — мечты его были жалкой копией. Она была прекрасней, чем он думал. Намного прекрасней. Он сел рядом с ней и ощутил — только на мгновение, на секунду, — как кожа ее руки прикоснулась к его коже. Ему показалось — это прикосновение было прохладным. Будто он случайно дотронулся до поверхности озера. Или — до холодной утренней листвы.