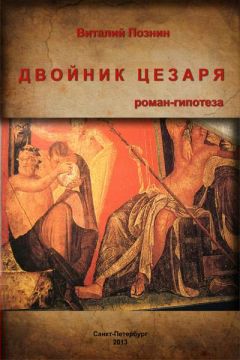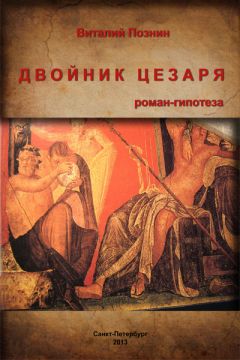Чингиз Абдуллаев - Заговор в начале эры
— Я думаю, это единственный мой недостаток.
— Клянусь всеми богами, ты прав, — ласково прошептала женщина, снова целуя его, — у тебя их вообще нет.
— Значит, я подобен великим богам, и мне нечего бояться.
— Да, — Сервилия провела рукой по груди Цезаря, — ты непостижим, как Юпитер. Когда ты приходишь ко мне, я начинаю верить Гомеру. Такого мужчину, как ты, Пенелопа могла бы ждать всю свою жизнь. Ни одна женщина не скажет тебе большего, Цезарь, но мне нечего бояться, ты умен и все понимаешь без слов. Даже моя дочь Юния говорит, что, когда ты смотришь на людей, они не выдерживают твоего взгляда. Ты действительно самый великий из всех смертных.
Цезарь покачал головой, улыбаясь.
— Все влюбленные женщины говорят одинаково. Прости, Сервилия, но твой «великий» любовник уже пережил на четыре года действительно великого Александра[64] и пока ничего достойного не совершил. Разве что удостоился любви такой женщины, как ты. И я ее очень ценю, поверь мне. Ни с одним человеком в мире я не бываю более откровенным, чем с тобой.
— Я знаю, — прошептала женщина, теснее прижимаясь к нему, — я тоже ценю это. Мой сын всегда говорит о тебе с таким восторгом. Я очень хочу, чтобы он был похож на тебя, — добавила Сервилия.
Цезарь вдруг вспомнил Брута. Его устремленный на него взгляд и его слова — «не посрамлю». В этот момент молния осветила дом Сервилии, и Цезарь вдруг почувствовал, как тело куда-то проваливается, исчезает. Голова закружилась, пламя светильника вдруг ударило прямо в глаза, и свет, вспыхнув ярким огнем, стал меркнуть. По телу начали пробегать конвульсии. Правая рука неестественно выгнулась, оставшись лежать под телом, и он вдруг громко застонал, откидываясь на ложе, широко раскрыв глаза.
— Что с тобой? — испуганно спросила Сервилия. — Опять началось…
Она знала о страшном недуге Цезаря. Десять лет назад он впервые потерял сознание в ее конклаве, и она очень перепугалась, решив, что он умирает. Несколько дней спустя жрецы-авгуры объявили ей, что подобная болезнь — печать богов и ею отмечены очень немногие, избранные. Страшной болезнью, которую греки называли эпилепсией, болели Александр Македонский, Пирр,[65] Ганнибал,[66] Кир.[67] Жрецы объяснили ей, что отмеченный этой болезнью способен общаться с богами, и женщина неистово верила им, ибо легко убедить любящую женщину в исключительности ее избранника.
А сам Цезарь в это время был уже далеко. Он снова, как семнадцать лет назад, лез на крепостные стены Митилен.[68] Меч в руке, и он карабкается по лестнице. Повержен один противник, второй. Он врывается на крепостные стены, закалывает еще одного врага. За ним идут римляне, его друзья. Он что-то кричит им, легионеры радостно отвечают.
Внезапно все исчезает, и меч выпадает из его рук. Против него идут враги, и у каждого из них лицо Марка Юния Брута.
— Ты, дитя мое? — спрашивает удивленный Цезарь. Неужели Брут и его друзья решили выступить против Рима, в защиту Митилен? Брут взмахивает мечом, и Цезарь с ужасом чувствует, как холодная сталь пронзает его тело. Он кричит и видит, как другие Бруты по очереди достают его своими клинками.
— Все было не так, — кричит Цезарь, — мы взяли тогда Митилены, а Бруту было в это время всего пять лет. Это неправда, такого не могло быть.
Но его никто не слышит. Снова и снова многочисленные Бруты пронзают его тело, и он, все еще живой и невредимый, видит лица и слышит дыхание этих людей. И тогда он обращается к небесам и кричит вверх, проклиная богов, отнимающих у него победу, уже не понимая, где сон, а где реальность. Но внезапно все исчезает, и тяжелая удушливая тьма наваливается на него, словно пронзенное тело, наконец, отказалось служить и рухнуло вниз с высоких крепостных стен.
Цезарь уже бил ногами по ложу, извиваясь и корчась в страшных судорогах, не сознавая, что происходит с его дергающимся в страшных конвульсиях телом.
Сервилия, испуганно поднявшись, закричала:
— Рубрия, Рубрия! — Это была вольноотпущенница Сервилии и поверенная в ее сердечных делах.
А Юлий уже не владел собой. Изо рта показалась пена, стиснутые зубы, казалось, начинали дробиться, на лбу выступил пот, и он начал задыхаться.
В конклав вбежала Рубрия. Молния еще раз ударила рядом, осветив все происходящее. Не обращая внимания на обнаженную хозяйку, вольноотпущенница бросилась к Цезарю. Достав плоский нож, она начала раздвигать зубы римлянина, пытаясь поставить тупое лезвие между ними. Этому приему ее научил Зимри, знавший, что хозяин часто проводит ночи у Сервилии.
— Держи ноги! — закричала Рубрия, садясь Цезарю на грудь. — Ноги…
Сервилия бросилась удерживать неистово вырывающееся тело Юлия.
После нескольких попыток Рубрии удалось, наконец, открыть рот Цезаря и вставить туда лезвие. Пена пошла еще обильнее, пачкая одежду женщины, но Рубрия не обращала внимания на это, крепко держа нож. Постепенно конвульсии прекратились, и через несколько мгновений Цезарь утих. Казалось, он спал. Женщины недоверчиво прислушивались к его ровному дыханию. Внезапно он открыл глаза. Это было так неожиданно, что Рубрия вскрикнула.
Цезарь молча поднял руку и вытащил лезвие изо рта. Пошевелил языком. Затем знаками предложил женщинам отпустить его. Рубрия осторожно слезла с ложа, а Сервилия, только сейчас вспомнив, что она обнажена, внезапно покраснела, прикрываясь шерстяным покрывалом. Она подала знак рукой, и ее вольноотпущенница быстро вышла, кинув удивленный взгляд на Цезаря. Он тяжело перевел дыхание.
— Вот этого я и боюсь, — глухо сказал он, — вот такого обморока. Однажды я упаду так перед толпой, и она растерзает меня.
Сервилия испуганно молчала, и он внезапно насмешливо сказал:
— И ты еще говоришь, что я подобен богам, тогда как я не подобен даже здоровому римлянину.
— Но великий Александр… — попыталась возразить она.
— Я знаю, — слабо отмахнулся Цезарь, — но он был царь, а я римский гражданин, равный из равных, и римляне не простят мне никакой слабости. Они будут смаковать ее, радостно сознавая, что самый ничтожнейший раб более здоров и счастлив, чем я.
Юлий был прав, и Сервилия, хорошо знавшая нравы римского общества, понимала это. Попытки человеческих устремлений в желаниях бренного тела всегда бывают ничтожны и жалки в своих проявлениях. Только высокие души способны подняться над телесным бытием человеческого тела, устремляя свои мысли в будущее. Но и сами гении так же смертны и бренны, как и все остальные. И чем больше гений, тем нетерпимее относятся люди к любым проявлениям его человеческих слабостей. Завидуя и не прощая ему его гениальность и отличие от других, ничтожные люди, составляющие в массе своей толпу, еще более не прощают гению обычных проявлений человеческих слабостей. И горе тому, кто, возвысившись над толпой, обнаружит перед ней простые человеческие слабости, столь свойственные каждому индивидууму этой толпы. Его сомнут и раздавят, безжалостно и жестоко, как поступают хищные звери, убивая чужака, случайно попавшего к ним в стаю. Не потому ли имена выдающихся людей часто окружены липкой паутиной клеветы, сплетен, пересудов, словно ничтожества радуются, что гениальный человек подвержен их слабостям и сомнениям?
— Я все-таки очень слаб, — тихо признался Цезарь.
— Это знамение богов, они отмечают своих избранников, — горячо возразила Сервилия, знавшая, что стоит такое признание для него.
Юлий, посмотрев на нее, улыбнулся.
— Ты веришь в знамение богов?
— А ты, верховный жрец, в них не веришь? — спросила удивленная женщина, усаживаясь на ложе рядом с Цезарем.
— Верю, — засмеялся Цезарь, — конечно, верю, ведь жрецы предсказывали мне, что имена Цезаря и Брута будут рядом, а они уже стоят рядом благодаря твоей любви. Моя дочь уверяет меня, что римляне всерьез полагают, что Марк — мой сын.
Женщина густо покраснела, наклоняясь к нему, и страстным голосом произнесла:
— Марк мог бы гордиться таким отцом. Можешь считать его своим сыном, Юлий, ибо мать Брута любит тебя больше, чем твоя супруга.
И долго еще в конклаве горел светильник, и Цезарь говорил с женщиной, понимающей его, любящей его и верящей в него. Воистину любой мужчина может мечтать о таком, столь недоступном для многих, огромном человеческом счастье.
А на другом конце города, недалеко от Большого рынка, на Целии, в маленькой грязной таверне, принадлежавшей вольноотпущеннику Корнелия Суллы — греку Эвхаристу, веселились уже подошедшие сюда Катилина и Лентул, а также большое число их сторонников и друзей.
Таверна была расположена на стыке двух улиц и находилась на земле, принадлежащей Марку Лицинию Крассу. Известный своей алчностью и богатством патриций еще двадцать лет назад, в период мрачных проскрипций Суллы, скупил огромное количество домов и земли в городе за бесценок. Теперь Красс фактически владел почти половиной всех домов «Вечного города». Эвхарист, пользующийся расположением самого Красса, иногда оказывал своему патрону кое-какие мелкие услуги, и за это хозяин не требовал с него слишком большой платы за пользование землей и домом. Сам Эвхарист, отпущенный на волю более двадцати лет назад, весьма преуспел, пользуясь покровительством бога Плутоса.[69]