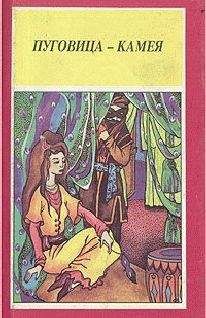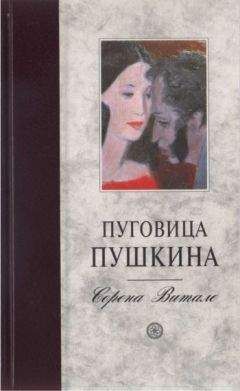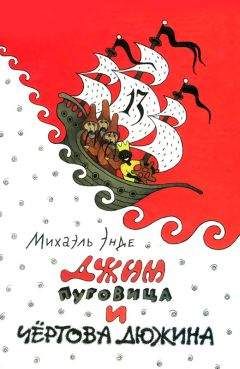Юлиан Семенов - Экспансия – I
— Я пью после окончания работы, — ответил тот. — Большое спасибо.
После окончания работы ты будешь лежать на асфальте, подумал Кемп. Или на паркете. Лучше бы на ковре, не так больно падать. Но ведь когда пуля разорвала тебя, ты не чувствуешь боли от падения, сказал он себе, ты воспринимаешь падение, как благо, как прикосновение к земле, которая дает силы; кто-то из древних норовил прикоснуться ногой к земле, когда его душил враг, ибо верил, что она даст ему новую силу, и, кажется, дала, но ведь это бывает в легендах, в жизни все грубее и жестче, пахнет жженной шерстью, булькает алая кровь в уголках рта и горло наполняется горькой блевотиной, потому что пробита печень, большая, шлепающая, как у коровы, и такая же бурая.
Он поднялся рывком, потому что понял: еще мгновение, и он все вывалит Гаузнеру, он просто не сможет перебороть в себе это желание; кто-то рассказывал ему, кажется, Клаус Барбье, что предатель — накануне того момента, когда он идет в камеру работать против своего близкого друга, — испытывает к нему такую же рвущую сердце нежность, как мать к своему ребенку. Но это продолжается несколько мгновений; главное — перебороть в себе криз, потом будет не так страшно; больно — да, но не страшно, и если боль все-таки можно перенести, то страх постоянен, а потому непереносим.
Позиция — I
Июнь сорок шестого года в Нью-Йорке был чрезвычайно влажным и до того душным, что ощущение липкого зноя не оставляло горожан и ночью, когда с океана налетал ветер; ливни, — словно бы кто поливал из брандспойта, — были тем не менее короткими, прохлады не приносили.
…Посол Советского Союза Громыко поднялся из-за стола, отошел к окну; Нью-Йорк спал уже, улицы были пустынны, в дымчатом серо-размытом небе угадывался близкий рассвет; вспомнил Пушкина — «одна заря сменить другую спешит, дав ночи полчаса», однако то ли магия Петровой столицы, то ли постоянная тоска по дому — уже третий год он представлял за океаном Родину, самый молодой «чрезвычайный полномочный», нет еще тридцати восьми, — но пронзительная по своей безысходной грусти пушкинская строка не ложилась на Нью-Йорк; воистину нам дым отечества и сладок и приятен…
Громыко глянул на светящийся циферблат: половина третьего; через семь часов выступление в Комиссии ООН по контролю над атомной энергией; утром получены предложения Кремля: от того, как он замотивирует необходимость принятия русской позиции — всего три пункта, несколько фраз, — зависит будущее человечества; именно так, ибо речь пойдет о том, что тяжко тревожит мир.
Посол отдавал себе отчет в том, что оппозиция советскому предложению будет серьезной; рассчитывать на логику (не чувства даже), увы, не приходилось, ибо строй рассуждений военно-промышленного комплекса совершенно особый, к общечеловеческому неприложимый. Он поэтому работал весь день над текстом своего выступления, чтобы абсолютно точно и, главное, доходчиво донести смысл предложений Кремля не только до членов ООН, но до западного радиослушателя и читателя, подвергавшихся ежечасно и ежеминутно талантливой и жесткой обработке средствами массовой информации: трудятся доки, мастера своего дела, в высочайшем профессионализме не откажешь.
— Господин посол, — спросил его как-то один из старейшин американской журналистики Уолтер Липпман, — неужели вы продолжаете верить в возможность достижения согласия в мире несмотря на то, что сейчас происходит в нашей стране?
— Верю.
Липпман улыбнулся:
— Это указание Кремля?
Громыко ответил не сразу, словно бы размышляя вслух:
— Это с одной стороны. А с другой — моя прилежность истории… Если к этой науке относиться вдумчиво и не страшиться черпать в прошлом уроки для будущего, тогда нельзя не быть оптимистом.
…Он вернулся к столу, пробежал глазами текст и вдруг явственно увидел лица своих братьев Феди, Алеши и Дмитрия, младшенькие; в детстве еще пристрастились к истории: неподалеку от их родной деревни, возле Железник (Старые и Новые Громыки разделяла прекрасная и тихая река Бесядь) высились курганы; детское воображение рисовало картины прошлого: виделись шведские легионы, что шли по Белоруссии к Полтаве; измученные колонны Наполеона. Когда братья подросли, начали зачитываться книгами Соловьева, мечтали о раскопках; не суждено — Федю и Алешу убили нацисты, сложили свои головы на поле брани; Дмитрий изранен, в чем душа живет; дядья по матери, Федор и Матвей Бекаревичи, погибли во время войны; Аркадий, единственный брат жены, убит в бою под Москвой…
«Нельзя не быть оптимистом», — вспомнил он свой ответ Липпману; горестно подумал, не выдает ли желаемое за действительное? Нет, как бы ни было трудно правде, она возьмет свое; чем больше людей поймут нашу позицию, тем больше надежды на то, что в будущем не повторится страшное военное прошлое; здесь его знают по фильмам Голливуда, живут представлениями, причем не только молодежь, но, что тревожило, и политики.
Громыко никогда не мог забыть, как его — он тогда прилетел в Вашингтон — пригласил в гости Джон Фостер Даллес, автор «жесткого» курса. Особняк его был небольшим, скромным; гостиная одновременно служила библиотекой, множество шкафов с книгами, очень похожие на декорации из бродвейских пьес про добрых старых адвокатов, черпающих знания в старинных фолиантах тисненой кожи с золоченым обрезом, — мысль обязана быть красивой.
Даллес протянул гостю обязательное виски, хотя знал, что советский посол никогда ничего не пьет; открыл створку шкафа, провел пальцем по корешкам:
— Ленин и Сталин, избранные сочинения, — достав том, он пролистал страницы, испещренные карандашными пометками и подчеркиваниями. — Сейчас меня особенно занимает вопрос диктатуры пролетариата, стараюсь понять ее истинный смысл.
Посол цепко проглядел пометки Даллеса; даже беглый просмотр свидетельствовал, что хозяин дома выстраивает концепцию тотального неприятия всего того, на чем состоялся Советский Союз, — вне времени, места и конкретных обстоятельств, без малейшего желания хоть как-то понять ближайшего союзника Америки, каким была Россия в Ялте весной сорок пятого.
Элеонора Рузвельт, вернувшись осенью сорок пятого года из Лондона, куда ее сопровождал Даллес, встретив посла на приеме, посетовала, что Даллес совершенно одержимо не верит русским: «Откуда такая подозрительность?» Вдова президента, которую Трумэн продолжал прилюдно называть «первой леди», подчеркивая этим свой респект к Рузвельту, улыбнулась тогда: «Отчего-то именно на Острове Даллес становится все более подверженным приступам недоверия ко всем предложениям, которые исходят из Москвы, видимо, на него очень сильно влияет Черчилль».
Громыко помнил, как поразила его информация, пришедшая в посольство из Тегерана: Сталин, не добившись — сколько ни пытался, — получить точного ответа от Черчилля, когда же начнется вторжение союзников в Европу, поднялся с кресла и, сдерживая гнев (только глаза как-то странно пожелтели), обратился к Ворошилову и Молотову:
— У нас слишком много дел дома, чтобы здесь тратить время. Едем! Ничего путного, как я вижу, не получается…
Дело спас протокол: «Маршал неверно меня понял, — заметил Черчилль, — точная дата в конце концов может быть названа — май сорок четвертого…»
В информации, пришедшей послу Советского Союза в Вашингтоне из Москвы, подчеркивалось, что Черчилль отступил из-за того, что Рузвельт явно был против его политики несколько снисходительного «сдерживания» русских… Рузвельта нет, а Черчилль здравствует, в сопровождении Трумэна приехал в Фултон, произнес речь против красных, звал к единению сильного Запада в его противостоянии «мировому коммунизму».
…Однажды Трумэн — в ту пору вице-президент — пригласил посла в Белый дом, на «киновечер». Показывали хронику: сражение на Тихом океане, борьба американской пехоты против японцев; потом пошли кадры советских документалистов: битва в Белоруссии и на Украине; Трумэн, сев рядом с послом, то и дело повторял:
— Это поразительно, совершенно поразительно! Какой героизм народа! Какая мощь вашей армии! Я совершенно потрясен, я не нахожу слов, чтобы выразить свое восхищение…
Посол не знал еще этих кинокадров, только что пришли с Родины; смотрел поэтому на экран жадно, мечтая увидеть кого-либо из друзей или родных среди пропыленных, израненных солдат, рвавшихся на Запад. Трумэн, однако, говорил без остановки, в степенях все более превосходных, каждую фразу кончал вопросом: «Не так ли?», «Не правда ли?»; надо было отвечать, отрываясь от экрана, отвечать точно; трудно было заставить себя забыть слова этого же человека, сказанные им в начале войны: смысл их был циничен и продиктован традициями дремучего изоляционизма — чем больше немцев и русских погибнет в этой битве, тем лучше для Америки; помогать надо то одним, то другим, в зависимости от обстоятельств.