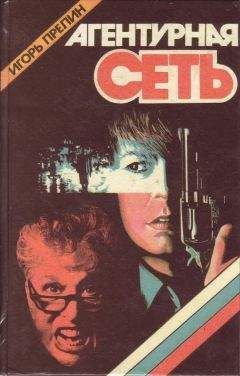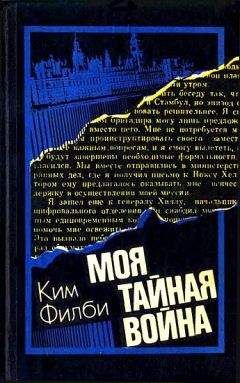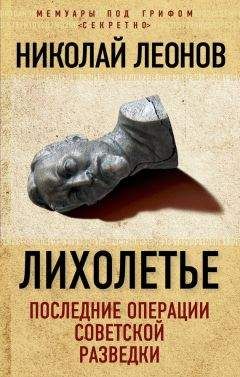Игорь Прелин - Год рождения
В почти полной темноте, рискуя каждую секунду зацепиться за якорные тросы или удариться о сваю или еще что-нибудь, я решил не поворачивать назад, а плыть вперед до тех пор, пока снова не увижу солнечный свет.
От страха я сбился с курса и поплыл не поперек, а вдоль платформы. Так, почти теряя сознание от недостатка кислорода, я проплыл еще метров двадцать. Когда я вынырнул на другом конце платформы, то еще несколько минут не только не мог выбраться на дощатый настил от усталости и пережитого страха за свою жизнь, но даже не мог крикнуть.
А тем временем мои приятели, которые шли за мной вдоль бортика и видели, как я ушел под понтоны, сразу оценили грозящую мне опасность, а когда через определенное время я не дал знать о себе, были в полной уверенности, что я застрял под водой.
Одни из них, включая Женьку Хрипакова, попрыгали в воду, пытаясь оказать мне помощь, другие побежали за спасателями.
Спасатель пришел, когда я, немного отдышавшись, уже выбрался на настил, и хотел надрать мне уши, но, увидев, в каком я состоянии, и оценив расстояние, которое я пронырнул, только удивленно свистнул и похлопал меня по спине.
— Держись, парень, — уважительно сказал он, — с таким характером не пропадешь!
С тех пор я боялся только одного: струсить…
Увидев двинувшегося на меня Мажуру, я не то чтобы испугался, но мне стало как-то не по себе от его искаженного лютой ненавистью лица и осознания того факта, что он собирается меня убивать.
— Стреляй, Миша! — крикнул мне дядя Геня, сумевший все же опустить стекло дверцы и теперь пытавшийся протиснуться в это отверстие, которое было явно тесновато для его комплекции.
— Не стрелять! — прохрипел Швецов, очнувшийся от удара Мажуры, но все еще неспособный встать на ноги.
Я и сам понимал, что стрелять в этой ситуации нельзя.
Конечно, мне ничего не стоило в считанные мгновения выхватить пистолет, но Мажура был нужен нам живым и невредимым. Он должен был еще дать показания на всех, кого знал по зондеркоманде и разведывательно-диверсионной школе и кто скрывается сейчас, как он сам скрывался столько лет. Он должен был рассказать также обо всем, что натворил в годы войны, обо всех карательных акциях, обо всех уничтоженных разведывательных группах и разгромленных партизанских отрядах: еще столько людей числилось пропавшими без вести, бесследно исчезнувшими при невыясненных обстоятельствах, а он мог внести ясность в обстоятельства гибели некоторых из них и помочь установить такую необходимую истину.
Доставать пистолет, чтобы просто попугать его, тоже не имело смысла: Мажура правильно оценил ситуацию и не хуже меня со Швецовым понимал, что стрелять мне нельзя. Более того, я ничуть не сомневался, что пистолет в моих руках не остановил бы его. Он знал, что пощады ему не будет, по его тяжелому взгляду исподлобья было ясно, что он намерен бороться до конца.
Конечно, отказываясь от применения оружия, я шел на большой риск. Рассчитывать на помощь моих старших товарищей я не мог, надеяться на то, что подъедет какая-нибудь машина, тоже не приходилось: неизвестно, кто в этой машине будет ехать и захочет ли он или они вмешиваться в наш конфликт.
И если бы Мажура взял надо мной верх, он успел бы натворить новых бед и снова на долгие годы, возможно, исчез бы из нашего поля зрения.
Но обо всем этом я думал потом, когда в управлении проводился разбор этого происшествия и его возможных последствий и действия каждого из нас получили соответствующую оценку.
А тогда я просто занял боевую позицию и решил посостязаться с Мажурой во владении приемами нападения и защиты без оружия, а заодно посмотреть, чему его там учили в немецкой разведывательно-диверсионной школе.
По его стойке я сразу понял, что каратэ в то время еще не было в моде. Это, с одной стороны, облегчало, а с другой — осложняло мою задачу, потому что я мог вполне нарваться на какой-то не знакомый мне приемчик.
И тогда я решил не вступать с ним в тесный контакт — черт его знает, чем он там владеет, — а держать на дистанции и постараться переиграть его, используя свое преимущество в скорости и росте.
Мажура понимал, что ему надо спешить, пока кто-нибудь не пришел мне на помощь, и поэтому собрался нападать первым. Он попытался достать меня ногой, но в сорок лет уже не та растяжка, чтобы высоко задирать ноги, к тому же щебеночное покрытие шоссе — не такая надежная опора, как, скажем, бетон или асфальт. Щебенка поползла у Мажуры под ногой, отчего он едва не потерял равновесие.
Но Мажура, ослепленный ненавистью и стремлением поскорее разделаться со мной и моими товарищами, видимо, никак не хотел смириться с тем, что возраст и отсутствие регулярных тренировок лишили его прежней быстроты и ловкости, и сделал еще несколько попыток нанести мне удары ногой в различные чувствительные места, от которых я без особого труда уклонился.
Его упорство навело меня на мысль, что ногами он нападает лучше, чем руками, а значит, и защищается лучше. Но ногами верхнюю часть тела и особенно голову защищать, безусловно, сложнее, чем руками, и, отталкиваясь от этой истины, я и избрал способ ведения этого поединка.
На мой взгляд, мы были с Мажурой в соседних весовых категориях: я во второй средней, а он в полутяжелой. При этом я был чуть выше его ростом, а он поплотнее. Эти показатели и определяли сейчас тактику моих действий.
Опустив руки, чтобы на всякий случай обезопасить себя от удара ногой, я сблизился с Мажурой до предельно допустимого расстояния и стал вызывать его на очередной удар.
Мажура сразу клюнул на эту удочку и снова попытался ударить меня в пах, но я едва заметным движением увеличил дистанцию и, когда он опять потерял равновесие на коварной щебенке, встретил его прямым ударом в челюсть.
Это был хороший удар. Я понял это по тому, что ощутил его всей рукой, от кулака до плеча.
Но Мажура, видимо, умел держать удары. Он только охнул и снова с упрямством обреченного пошел на меня. И снова щебенка подвела его так же, как за несколько минут до этого подвела дядю Геню.
На этот раз я использовал свою любимую комбинацию. Когда он сблизился настолько, насколько я позволил ему сблизиться, и, пытаясь нанести удар, опять поскользнулся, я сделал ложный замах правой рукой. Он инстинктивно поднял руки, чтобы защитить голову, и тогда я нанес ему удар левой в солнечное сплетение и сразу же, как только он опустил руки, правый боковой по челюсти.
Этот удар потряс его, потому что я вложил в него весь вес своего тела, но он устоял на ногах и только, не мигая, уставился на меня. Увидев, что он «поплыл», я, не давая ему опомниться, нанес ему еще один удар в челюсть, а затем еще!
В любой другой ситуации я никогда не поднял бы руку на арестованного, тем более безоружного, даже если бы он был отъявленным негодяем. Но Мажура сам вызвался на этот поединок, и он был далеко не так безоружен, как могло бы показаться неискушенному свидетелю этой схватки, потому что умел убивать голыми руками, и поэтому я с неожиданной для самого себя злостью избивал его, как боксерский мешок.
Он был моим врагом, и я мстил ему и за расстрелянных военнопленных, и за повешенную радистку, и за все остальные его преступления, о которых я еще не знал, потому что это выяснится только в ходе следствия.
Только после четвертого или пятого удара он раскинул руки в стороны и плашмя грохнулся на спину…
Так и лежал Мажура на самой середине шоссе, пока мы с дядей Геней оказывали помощь пострадавшим. Окончательно придя в себя, Осипов распорядился сделать то, что мы обязаны были сделать еще в правлении колхоза, да посчитали излишним, убаюканные признанием Мажуры и его полной покорностью судьбе.
Выполняя это распоряжение, я подошел к все еще находившемуся в глубоком нокауте Мажуре, завел его руки за голову, надел на него наручники и пошел помогать дяде Гене вытаскивать наши вещи из «Победы».
Вскоре с двух сторон подъехали несколько машин, мы погрузились на одну из них и уехали в райцентр. Перед отъездом общими усилиями поставили «Победу» на колеса, и дядя Геня остался, чтобы отбуксировать ее на авторемонтный завод: он был уверен, что там возьмутся ее восстановить и ему не придется пересаживаться на другую машину.
Но ремонтировать «Победу» не было никакого смысла, ее списали, после чего дядя Геня и получил новенькую «Волгу»…
Пока я вспоминал всю эту историю, мы проехали центральную часть города, затем заводской район и остановились у железнодорожного переезда. До поселка, в котором жил Семенкин, от этого переезда было около километра, и я стал обдумывать, как лучше построить с ним беседу.
Дядя Геня поворочался на своем сиденье, глядя, как к переезду приближается товарняк, потом перевел взгляд на меня и спросил:
— Ты о чем задумался, Миша?
— Да так, волнуюсь что-то, — честно признался я.