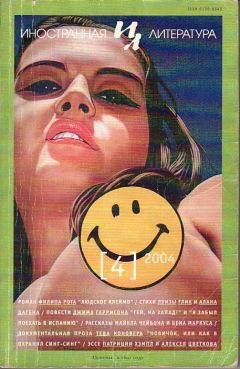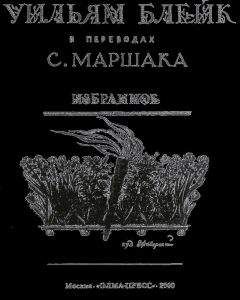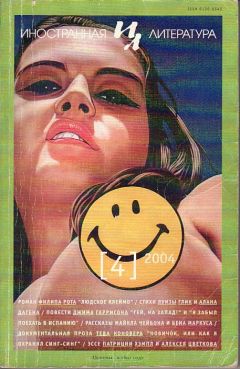Юлиан Семенов - Пароль не нужен
— Многие, — сразу оживился Тимоха. — Вот, к примеру, Николай Дионисьевич бывал, младшенький Меркулов. Он теперь иностранными делами заворачивает. Кто там и как про него считают, это дело современное, а я скажу правду: хороший он человек и веселый. Ну и уж обязательно Кирилл Николаич Гиацинтов, жандарм. Охотник — куда там, зверь до охоты. Я изюбря каждый год обкладываю — для его самого с друзьями… Потом профессор был с ним — Гаврилин Роман Егорыч. И дочка его приезжала — чистый ангелочек, Сашенька. Сейчас небось девица, если баланс подбить.
Владимиров, чуть улыбнувшись, спросил:
— А про баланс кто говорил?
— Святой человек. Должность у него по-русски неприлично называется. Коротко так, вроде задницы. С лошадьми он занимался.
— Жокей?
— Именно. Мой младшенький братишка, Федька, «жопей» его называл. Прибылов Аполлинарий. Денег имел — тьму. Только он порченый, хлебное вино пьет — ужас. А напьется, бывало, и ну пятирублевки золотенькие вокруг себя расшвыривать. Федька потом лазит, лазит — все ладони об траву стерет. Аполлинарий-то помогал кой-кому деньгами. Он с сердцем человек, только по-хорошему его надо просить. Мне двух коров купил… А теперь наши погорельцы хотели к нему пойти — не пустили их японские патрули в город. Увидишь его — попроси от мужиков, пусть подможет, что ему стоит?
Первый стакан выпили молча. Долго сопели, мотали головами, жмурились и занюхивали самогон разварным картофелем. В тайге, которая кажется пустой и гулкой, как ночной театр, ухали птицы. Далеко-далеко на востоке, возле Лаубихары, гудели водопады. Звезды, поначалу слабо тлевшие, теперь ярки и злы. Одна звезда — по всему, Орион — калилась изнутри то красным, то синим светом. И казалось Владимирову, что кто-то далекий хочет сказать землянам нечто очень важное, но — не может.
Языки костра то ластились к земле, то взмывали вверх ломкими фигурками скифских танцовщиц. На той стороне ручья, в болоте, кричала выпь. Крик ее был извечен и жуток.
— Как прошла? — спросил Тимоха.
— Жжет.
— Греет. Все органы души прогреет и обновит. Еще, что ль, ломанем?
— Давай.
Тимоха ухмыльнулся в пегую бороду:
— А из ваших никто не пьет.
— Наши — это кто?
— Красные.
— А ты какой?
— Розовый.
— Это как понять?
— А это понять так, что хотя Федька мой за красных погиб, но ведь белый — он тоже русский. Скуластый, глаз точкой — все как у меня. Землю одну любим, под одним небом живем. У меня до стрельбы жажды нет, я охотник, мне и в миру есть кого в тайге на мясо завалить. Мне в драке нынешней не пальба важна и не сабля с золотом. Мне в ей правда важна. А когда я про это красным командирам, которых из окружения выводил, сказал — они мне заявили, что я, понимаешь, зыбкий элемент и возможная гидра.
— Дураки.
— Это другая сторона. А народ их слушает и надо мной смеется. А я ведь, когда головой рискую, вам помогая, денег не беру. Я одного прошу: ты мне правду до сути растолкуй. Мужик, он правды жаждет, как земля — воды.
— Федьку твоего красные по мобилизации забрали?
— Сам побег.
— Партийный?
— В армии вроде бы записался в ячейку.
— Ты с ним толковал?
— Брат он мне, как же не толковать.
— Ну а про истинную правду?
— Так ведь малой он. Какая у него может быть истинная правда, когда ее старики не постигли?
— Выходит, молодому правды не постичь?
— Трудней.
— Ты в бога веришь, Тимох?
— Это мой вопрос, ты его не касайся.
— Да нет, я не касаюсь, я просто к тому, что Христу было тридцать три года, когда его распяли.
Тимоха медленно поднял голову, уперся взглядом в надбровье Владимирова.
— Нравится мне, — сказал он, — что ты за горло не берешь, хотя увлекательности в твоем слове мало. За таким говоруном, как ты, не многие пойдут. Надо, чтоб жилы на шее раздувались, когда говоришь, надо, чтоб про будущее такое разрисовал: один кисель да птичье молоко — тогда за тобой мужик попрет. В России на красивом слове кого угодно проведешь.
— Я не жулик. Да и потом народ долго байками не прокормишь. Не выйдет. Он посмотрит, посмотрит да и рассердится.
— Что ты! — усмехнулся Тимоха. — Русского сердиться царь отучил. Он все больше обижается, русский-то. Другу пошепчет, жену отлупит, самогонки поддаст — вот и вся недолга.
— Занятно говоришь.
— Обычно говорю. Сам из каких?
— Отец ученый был.
— А молчалив ты. Многие ваши, те, что не от земли, говорливы больно. А ты слушаешь. Хорошо это.
— У древних китайцев книга такая была. Лао Цзы. Книга главного учения. А главное учение — это наука о пустоте. Смысл прост: в каждом человеке должна быть пустота, чтобы принять мнение других, даже если это мнение противно твоему. Все равно это обогатит тебя, сделает более широким в суждении и более подготовленным в борьбе за свое, во что ты веришь.
— Выходит, если белые эту самую китайскую трехомудию, усвоят, значит, мир настанет?
— Черт его знает, — весело удивился Владимиров, — как-то я не думал об этом. Во многом люди разобрались, а вот в том, кто начинает войны и кто заключает миры, до сих пор не могут порядка навести.
— А как его навесть?
— Дать людям свободу.
Костер погас. С ручья поднялся туман. Он висел зыбким, но плотным облаком, растекался, делаясь из серого белым. Выпь теперь ухала совсем рядом. Осока по берегам ручья серебрилась каплями росы.
Владимиров лег на теплую землю, закинул руки за голову, мурлыкал что-то тихое и протяжное.
— Тимох, звезды считать умеешь? — спросил он внезапно.
— Много их, до хрена по небесам рассеяно.
— Если вернусь — научу звезды считать. Может статься, я к тебе скоро вернусь — и не один, а с твоими бывшими знакомыми.
— Примем, угостим, а как иначе… Ну а звезд на небе сколько?
— Я насчитал двести восемьдесят пять. А мне надо семьсот семьдесят семь — обязательно.
— Зачем?!
— Индусы говорят: три семерки — самое счастливое число. Вот и стараюсь.
КАМЕРА ВЛАДИВОСТОКСКОЙ ТЮРЬМЫ
Васильев очнулся после допроса только на второй день. Сначала он лежал не двигаясь, тело свое казалось ему легким и крохотным. В голове звенело, и он подумал, что все случившееся с ним было во сне. Но когда он попробовал подняться с пола, боль свела спину, он замычал и на минуту потерял сознание. А снова открыв глаза, увидел над собой, словно через пелену, расплывчатые лица товарищей из подпольного губкома.
— Какое сегодня число? — спросил он, с трудом разлепив толстые разбитые губы.
— Восьмое, — ответили ему.
Васильев весь затрясся, будто агония пришла, и стал повторять:
— Не может быть, не может быть, не может быть…
Он вспомнил, как Суходольский вперемежку с вопросами о подполье и типографии несколько раз спрашивал о московском госте. А он, Васильев, должен был московского гостя встретить на вокзале восьмого, в девять утра, то есть сегодня.
— А сколько времени? — прохрипел он.
— Половина одиннадцатого.
— Ночи?
— Ночи.
— Сегодня никого новых в тюрьму не привозили?
— Никого.
— Точно знаете, товарищи? — приподнявшись на локтях, спросил Васильев.
— Совершенно точно, последний арест был вчера, девочек из типографии забрали.
Васильев рухнул на пол, и какое-то подобие улыбки прошло по его лицу. В горле у него забулькало, и он, повернувшись на бок, зашелся предсмертным кашлем.
«Слава богу, — подумал он, отдышавшись, — они москвича не встретили, значит, я молчал, когда в беспамятстве был, значит, все хорошо…»
— Воды, — попросил Васильев хрипло, — вроде бы кончаюсь я, товарищи, сердце у меня холодеет. Вы только держитесь, вы держитесь, тогда все будет как надо, иначе каюк…
Он говорил быстро, а левой рукой все над собой шарил и пальцами шевелил — окровавленными, с синими подушечками вместо ногтей.
РЕСТОРАН «ВЕРСАЛЬ»
В зале было шумно. За столом сидели люди друг друга знающие, поэтому царила здесь обстановка непринужденной веселости, дружества и приятельской открытости. На сцене певец, загримированный под Вертинского, пел слишком громко и очень уж картинно ломал длинные свои пальцы — хруст во время музыкальных пауз был слышен в зале: закрой глаза — будто сапогами по сухому валежнику.
Возле сцены — столик для особо почетных гостей. Здесь Николай Иванович Ванюшин, профессор Гаврилин с дочкой Сашенькой и главный режиссер театра «Ко всем чертям» Ефим Михайлович Долин.
Певец на сцене обхватил голову руками, простонал:
Птичка божия не знает
Огорчений никогда.
Антихрист собакой лает
Без особого труда…
Долгу ночь в подполье дремлет.
Солнце красное взойдет,
Антихрист, геенне внемля,
Встрепенется — и орет!
За весной, красой природы,
Лето красное бежит,
Пляшут красные уроды,
А в дуду играет жид!
Ефим Михайлович Долин, засмущавшись, покашлял и, чтобы разрядить неловкость, первым зааплодировал.