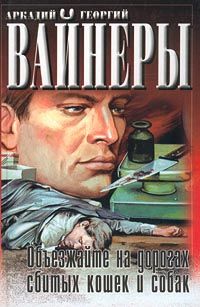Аркадий Вайнер - Объезжайте на дорогах сбитых кошек и собак
— Нет, как-то в голову не приходило…
— И очень зря! Прекрасное дело! А при вашей профессии особенно! Хоть тысячи на две-три. Обязательно! — стал горячо убеждать меня Егиазаров.
— Я не оцениваю свою жизнь так высоко… — мне очень понравилось, что себя Егиазаров ценит, по крайней мере, вдвое дороже меня. — Собственно, я вот зачем приехал: мне надо познакомиться со свидетелями и точнее представить некоторые обстоятельства. Тогда можно будет приступать к составлению обвинительного заключения.
— Да я рад помочь, чем смогу — оживился Егиазаров. — А вы действительно не хотите выпить рюмочку? Вам на службе нельзя, наверное?..
— Нельзя и неохота… Кроме того, выпью я тут с вами на брудершафт, подружимся на всю оставшуюся жизнь, как же тогда быть с моей объективностью в расследовании? Окажется ваш враг Степанов во всем и навсегда виноват…
— Во-первых, я вам точно скажу: дружба объективности не помеха! Вы уж мне поверьте, наверняка знаю. А во-вторых, не чувствую я в Степанове врага. Прошла у меня злость. Только Васю очень жалко, ни за что погиб человек. Безобидный, как муха…
Поднятый над всем земным хирургической кроватью и своим великодушием, Егиазаров посмотрел вокруг затуманившимся философическим взглядом.
— Была бы моя воля, — проникновенно сказал он, — не держал бы я Степанова в тюрьме. Не верю я, что в тюрьме можно сделать человека лучше, перевоспитать его скорее…
— А что бы вы сделали со Степановым на моем месте? — серьезно поинтересовался я.
— Отпустил бы его! Иди, жлобяра, к людям, глянь на сирот, матери несчастной Васиной посмотри в глаза и убивайся, скотина, до конца своих дней! Мучься, собака, думай все время, как ты можешь этим несчастным горе загладить, какое им сотворил! Вот как я думаю! Маринка, правильно я говорю?
— Ты всегда, Сурик, правильно говоришь! — проворковала синяя пышногрудая авиаторша. — Ты очень умный и справедливый! Я и девочкам своим всегда объясняю: как Сурик сказал, так и надо поступать, он все понимает…
От охватившего ее волнения всколыхнулись нашивки и эрфорсовская эмблема на грудях — могучих крыльях покорительницы заоблачных вершин и сердечных глубин.
А мне взгрустнулось немного от патетически высокого человеколюбия Егиазарова. Я ведь совсем недавно почти то же самое излагал Степанову, и если он мои слова воспринимал, как я пламенные тирады Сурика, то вряд ли я подвинул его к моральному очищению и искреннему раскаянию. Одни и те же слова. Что же наполняет их содержанием или оставляет пустым колебанием воздуха?
Наши поступки?
Не знаю. Наверное. Но как сделать, чтобы Степанов поверил мне?..
— Мне приятно ваше высокогуманное отношение к людям, — сказал я со вздохом Егиазарову, — но удовлетворить ваше ходатайство об освобождении Степанова не могу. Закон возражает. Есть такой народный обычай, можно сказать, древняя традиция как бы всеобщий предрассудок: убийц полагается держать в тюрьме…
— И никакой это не предрассудок! — возникла на подскоке прекрасная планеристка. — Это ты, Сурик, никому зла не помнишь, а я бы их сразу на месте расстреливала! Бандиты проклятые, хулиганье! Приличным людям проходу нет! Когда вы им банок начали кидать, я прямо на седьмом небе была…
Ай-яй-яй, Маринка молодцовая, летунья боевая! Как поучительно и полезно общение с бесстрашными воздухоплавательницами! Ведь, по ее словам, получается, что в момент, когда Степанову «накидывали банок», Марина не только пребывала на седьмом небе, но и одновременно присутствовала на месте преступления. Ай, как интересно!
Ни малейшего упоминания о ней в деле я не встретил. Забавно.
Жаль только, что гуманист Сурик тоже обратил на это внимание и весело спросил-напомнил-приказал:
— Подруга, ты на работу-то собираешься? Смотри, опоздаешь, тебе там расскажут про дисциплину…
— Ой, засиделась, господи! Да, ничего, сейчас тачку схвачу, поспею…
Пока она укладывала свою красивую сумку-«таксу», переодевала что-то за моей спиной, я спросил Егиазарова:
— Надеюсь, вы не в претензии, что я вас допрашиваю в больнице? Это ведь и в ваших интересах, чтобы все быстрее окончилось…
— Конечно! О чем речь?
— Значит, я хотел, чтобы вы мне пояснили, как вы все там, на площадке отдыха оказались…
— Да почти случайно это вышло. Выходной день был, мы ведь тоже люди, всегда других кормим, а сами, случается, за день во рту крошки не имеем: беготня, суета, вы понимаете. Вот и договорились, что Ахмет нас покормит шашлыками со своего мангала. Ясное дело, для своих оно вкуснее будет, чем на потоке общепита… Вот и собрались…
— Прекрасно. Кто да кто собрался? — я взял блокнот и стал записывать его ответы. Протокольная часть допроса меня сейчас не интересовала.
— Ну, я там был, Вася Дрозденко царство ему небесное, последний шашлык в жизни скушал, директор наш Эдуард Николаевич, Валера Карманов, шеф-повар, и Лешка Плахотин позже подъехал…
— Все?
— Все.
— Никого не забыли?
— А чего забывать, это же не Афонская пещера все на виду, — засмеялся Егиазаров: он мне тоже демонстрировал, что наш разговор скорее душевный, чем формальный.
— Прелестно. А Плахотин — ваш сотрудник?
— Нет. Лешка не сотрудник. Так старый знакомый. Встречаемся иногда…
Марина подошла к хромированной кровати, нежно поцеловала Егиазарова и строго наказала:
— Лежи не дергайся, не нарушай режим. Завтра с утра приду… — повернулась ко мне. — Очень приятно было с вами познакомиться… До свидания…
— До свидания, Марина. Я надеюсь, что мы с вами еще встретимся. Кстати вы не можете объяснить… — я сделал небольшую паузу и кивнул в сторону Сурика. — За что они стали Плахотина лупить?
Егиазаров высоко поднял брови и резко замотал головой, но я заслонял его собой и Марина, не замечая предупредительных сигналов руководителя полетов, зашла на меня в стремительное пике.
— Сурик его бил? Да вы что? Сурик до него пальцем не дотронулся! Нужен он ему больно, лупить его!..
— Марина, я вас сейчас официально спрашиваю: вы точно видели, что это не Егиазаров бил Плахотина? — двинул я вопрос наподобие шахматной «вилки».
— Конечно, видела! И где хотите подтвержу: не прикасался он к этой вонючке!
— Заткнись, дура! — тихо промолвил со своего медицинско-индустриального памятника Егиазаров. — Что ты могла видеть, когда тебя там не было вовсе! Это же я тебе все потом рассказал, в больнице. Ты забыла, что ли? Просто ты веришь каждому моему слову, я ведь никогда не вру! Меня в детстве так и называли: Сурик-Честность… Правдивость — это мое ремесло…
— Я рад за вас, Сурик, за вашу высокую репутацию у друзей детства. И уж, пожалуйста, употребите на меня свое второе ремесло — правдивость. Расскажете, за что вы били, точнее говоря, за что ваши друзья били Плахотина?
— Да что вы ее слушаете? — вскипел Сурик. — Она же все перепутала, решила, что вы говорите о Степанове! Она ведь ничего не видела и перепутала фамилии. А нам бить Плахотина зачем? Нормальный парень, наш знакомый…
— Ага, значит, Марина перепутала… Ну, что же, такое тоже возможно. А вы где работаете, Марина?
— Там же, в ресторане, в «Центральном»… Я там официантка…
— Фу, прямо камень с души, — сказал я с облегчением. — А то я вас принял за американскую летчицу…
7 глава
Автобус, пыхтя и отдуваясь, вез меня из больницы через окраины в центр. Он погружался в осенний вечер плавно и неотвратимо, как тонущая в омуте бутылка. Проплывали за окнами спрятавшиеся в садах частные дома, их оранжево-красные абажуры и плафоны будто бакенами обозначали фарватер автобусу, петлявшему среди жилых кварталов, пустырей в строек.
На сиденье против меня дремала женщина. Одной рукой она прижимала к себе маленькую девочку, что-то без умолку рассказывавшую матери, а другой крепко держала объемистую авоську с продуктами. На ухабах и крутых поворотах женщина просыпалась на миг и быстро говорила девочке — да-да-да, доченька, все правильно… — и сразу же погружалась в зыбкий, неглубокий сон. У женщины было тонкое усталое лицо. Я смотрел на нее и испытывал печаль и нежность. Наверное, Лила, возвращаясь с работы, тоже дремлет в автобусе. Женщины сильно устают.
Наверняка бойкая летчица-официантка Марина восприняла бы мою попутчицу как знак неполучившейся, неудачной жизни. Но эта несостоявшаяся жизнь проходила отдельно от Марины, мчащейся сейчас на работу в «тачке» или на попутном «леваке»…
В те редкие дни, когда мне удается пораньше закончить свои невеселые делишки, я захожу в школу за Маратиком. После занятий он остается на «продленку», которую потом еще продлевает игрой в футбол до того мига, когда мяч можно найти на поле только ощупью. Тогда игра кончается и он идет домой. Нет, нашего сына при всем желании не назовешь домоседом.