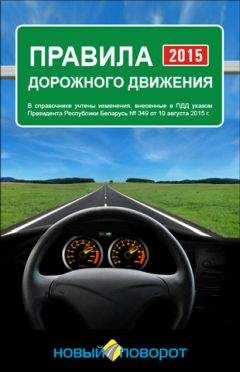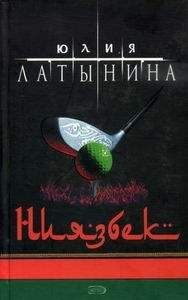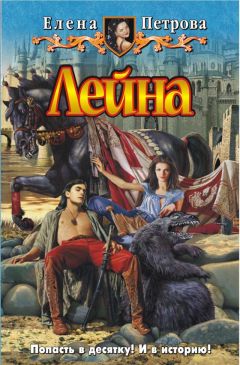Леонид Юзефович - Контрибуция
— Ну и ну! — Пепеляев с подозрением глянул на Каменского. — Не продешевили вы? Целый пароход, и всего за десять тысяч?
— А что делать? — огрызнулся тот, нервно дергая тощим коленом, обтянутым полосатой брючиной. — Как прикажете поступить, если мне только самовар и оставили? Ждать, пока вы меня расстреляете?
Пепеляев сощурился:
— По-моему, господин Каменский, вы сомневаетесь в прочности Сибирского правительства.
— Нет! — ужаснулся Каменский.
— Сомневаетесь и не верите, что мы сможем гарантировать вам владение «Людмилой». В таком случае пеняйте на себя. Еще локти станете кусать. — Пепеляев с улыбкой повернулся к Сыкулеву-младшему. — Считайте этот пароход своим. Благодарю за доверие, вы получите его в целости и сохранности… После победы.
Выпучив глаза, Сыкулев-младший начал подниматься со стула, но Пепеляев махнул рукой, и он сел.
— Итого, — подвел баланс Шамардин, — в счет векселя Фонштейну, за Каменского и за себя лично господин Сыкулев представил перстень с тремя бриллиантами.
— Золотой?
— Платиновый. Ювелир оценил его в тридцать две тысячи рублей по курсу шестнадцатого года.
— Тридцать две — тридцать три, — солидно уточнил Константинов. — Изумительная вещь. Бриллианты чистейшей воды и необычайно крупные.
— Пускай будет тридцать три, — милостиво решил Пепеляев. — Три тысячи мы ему вернем. Чаем, свечами или мылом. Вы что предпочитаете, господин Сыкулев?
Тот не отвечал, с ненавистью косясь на генерала.
— Любопытно, откуда у вас такой перстень?
— Говорит, что фамильная драгоценность, — объяснил Шамардин.
— Ага, — ухмыльнулся Грибушин. — От бабки-поденщицы в наследство достался.
— Ну, а этот гусь? — Пепеляев ткнул пальцем в Исмагилова.
Шамардин развел руками:
— Ничего не принес. Отказывается, понимаете ли.
— Лучше помирать буду! — заявил Исмагилов и тут же, без долгих разговоров, отослан был в тюрьму, чтобы там подумать как следует.
— И черт с ним! — сказал Пепеляев, когда Исмагилова увели. — Я хочу посмотреть перстень. Надо же, тридцать три тысячи!
Шамардин шагнул к столу, взял маленькую черную коробочку, поставил ее себе на ладонь, бережно открыл и замер, вылупив глаза: перстень исчез.
Когда Пепеляев ушел, Мурзин снова сел на пол. Сидел, мял в руке оброненную кем-то из купцов перчатку, думал о Наталье. Как она там? Успела ли уйти к тестю? В чулане было темно, и возникало такое чувство, будто ему перед смертью завязали глаза. Всякий раз, едва по коридору приближались чьи-то шаги, чтобы оглушительно прогреметь мимо двери и удалиться, он невольно втягивал шею в плечи и напруживал мускулы, как охотничий кречет, которого уже вывезли в поле и вот-вот сдернут с головы застящий свет суконный клобучок.
Дед Мурзина родом был из Казанской губернии, село Старокрещеново под Царевококшайском, жили там русские вперемешку с татарами, крестившимися в незапамятные времена; они ходили в церковь, но почитали и развалины древней мечети за околицей, пили водку, но не брезговали и кумысом. Еще при царе Михаиле Федоровиче старокрещенцам пожалована была свобода от всех податей и казенных повинностей кроме одной: ловить и поставлять ко двору для царской охоты белых кречетов, которые водились в окрестных дубравах. Потом всех кречетов переловили, а свобода осталась. Цари давно стали императорами всероссийскими, позабыли, как с кречета клобучок снимать, как подбрасывать его с руки при виде мелькающей в полях куропатки, а старокрещенцы хотя и пахали земно, как все мужики, но по-прежнему считались государевыми кречетниками, людьми вольными; никому не принадлежали. Народ был лихой, соседние помещики их побаивались. А лет семьдесят назад, еще при крепостном праве, начальство в Казани вдруг спохватилось: какие-такие кречетники? Откуда взялись? Донесли в Петербург, и велено было старокрещенцам записаться в, по выбору, любое из податных сословий: в купцы, мещане или казенные крестьяне. Мурзин-дед приписался к царевококшайскому мещанству, а внук перебрался в Пермь, женился, работал слесарем на пушечном заводе.
Для забавы Мурзин держал голубятню, но нет-нет, и особенно по пьяному делу, всплывала давняя пацанья мечта — поехать в Старокрещеново, изловить белого кречета, которые, как говорили, раз в десять лет еще попадались в тамошних прореженных дубравах. И Наталья, когда он, хмельной, вваливался в дом, гладила по голове, шептала о том, как вместе поедут, поймают, выучат, станут на охоту ходить, всегда будет на столе свежая дичь; он затихал, размякал от этого шепота, а утром вставал и шел на завод собирать орудийные замки. Детей у них не было. Потом решили взять из приюта младенчика, и, чтобы от соседей скрыть, что не свой, приемыш, Наталья подкладывала на живот, под платье, подушечку — будто беременная. Но тут началась на пушечном забастовка, Мурзин в поганой тачке прокатил по цехам инженера Люкина, мерзавца и шпиона, за что угодил в Сибирь, на поселение, и там, среди ссыльных, пить бросил, начал книжки читать, в три года стал тем Мурзиным, каким и был теперь.
Вскоре после того, как ушел Пепеляев, за дверью поднялась беготня, крики, еще час, наверное, миновал, затем приблизились шаги, отличные от всех прочих, и в проеме, на свету, опять возникла высокая легкая генеральская фигура.
— Выходи, — сказал Пепеляев.
Негнущимися пальцами расстегивая шинель, чтобы нараспашку пойти навстречу смерти, Мурзин выбрался из чулана, однако двинулись не к выходу, а в глубь особняка. Вошли в тот же кабинет, в углу валялись остатки каравая, который до сих пор отрыгивался, и когда Пепеляев, не садясь, опять заговорил о купцах, о сделанных ими добровольных пожертвованиях, Мурзин никак не мог взять в толк, зачем ему все это рассказывается по второму разу. Смерть была совсем близко, рядом с ней шестнадцатый год, по ценам которого Пепеляев собирался принять у купцов пожертвованные товары, то есть всего-навсего позапрошлый, казался далеким, как времена кречетников: тогда была одна жизнь, а теперь — другая, и не понятно было, каким образом из той могла возникнуть эта.
Он слушал Пепеляева, но слышал не его слова, а заоконные будничные звуки утреннего города: звон ведер у обледенелой колонки, собачью брехню, налетевший свист санного полоза, колокол, и так ясны и отчетливы были эти звуки, так много за ними открывалось душе, что, казалось, никакая сила не может заставить его, Мурзина, больше их не слышать. Даже смерть.
Солнце играло в закуржавевшем окне кабинета, Пепеляев хвастал не то своей прозорливостью, не то просто удачей — дескать, за день добыл то, чего Мурзин не сумел получить за целый год; и снова появилась мысль, больно ожегшая еще утром, когда купцы разбирали из чулана шубы и шапки, чтобы идти за контрибуцией: вот не отобрали у них всего и досталось генералу, обернется оружием, лошадьми, фуражом, продовольствием. А из-за кого так вышло? Тот, с глазами навыкате, пометивший фальшивой датой приказ об эвакуации, сказал бы, не задумываясь: вы и виноваты, товарищ Мурзин. Но виноват ли? Да, он доказывал, что нехорошо купцов разорять подчистую, они тоже люди, кто-то ведь и торговать должен был в этом мире, раз уж мир так устроен. Кто — как, но Мурзин при реквизициях поступал по совести, изымал не все, а лишь ту часть, что нажита обманом. Сам, расспрашивая приказчиков и горожан, вникая в бухгалтерию, изучая приходные и расходные книги, тщательно определял эту часть, для каждого из купцов разную: например, у Сыкулева-младшего она доходила до девяти десятых всего имущества, а у Калмыкова составляла не более половины. Почему же революционная власть должна ставить их на одну доску? Это несправедливо. Он, Мурзин Сергей Павлович, начальник рабочей милиции, хотел справедливости, и не его вина, что город пал, снег ли тому причиной, как утверждали самооборонцы, или проспали штабные, изменил Валюженич, но город пал, ничего не поправишь, и купцы сдались, остается лишь умереть достойно, в распахнутой шинели.
А Пепеляев продолжал говорить, и внезапно на ровной тусклой поверхности его речи, будто выброшенное подводным ключом, закачалось, вынырнув, одно-единственное слово, круглое и блестящее, не похожее на другие — перстень. И опять — перстень, перстень. Мурзин прислушался: был, оказывается, какой-то перстень, принесенный Сыкулевым-младшим, а теперь его почему-то нет, был и сплыл. И прежде чем все окончательно прояснилось, еще не понимая, какая существует связь между этим разговором и пропавшим сыкулевским колечком, но уже предчувствуя новый поворот судьбы на дороге, которая минуту назад казалась выпрямленной до конца, видной во всю длину, Мурзин, со снисходительной улыбкой взглянув на генерала, спросил:
— Что, надули Сил Силычи?
Через четверть часа вместе с Пепеляевым вошли в большую комнату. В углу горел камин, забранный в чугунную, с литыми цветами, раму, к нему тягой сносило дым от папирос, которые курили Калмыков и Грибушин. Сизые разводья и струи с двух сторон вплывали в горящий камин, хотя Калмыков из скромности пускал дым себе за пазуху, а Грибушин выдувал его чуть не в лицо стоявшему рядом с ним важному лысому старичку с бородкой — это, видимо, и был ювелир Константинов. Каменский мрачно сосал погасшую трубку, Фонштейн грыз ногти, Сыкулев-младший скреб кочергой поленья, чтобы горели жарче, и на вошедших не смотрел. Ольга Васильевна разглаживала на столе бумажку от конфеты.