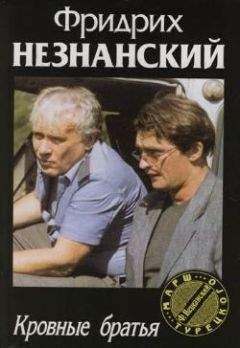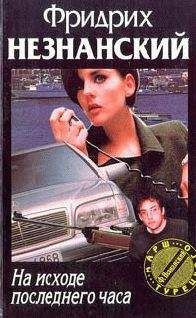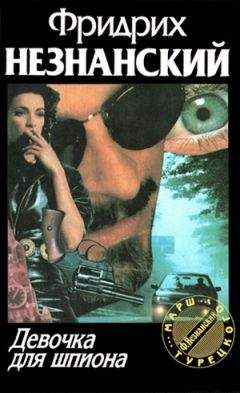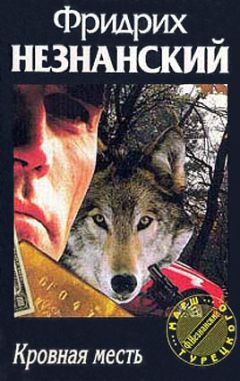Фридрих Незнанский - Последнее слово
5
Савин молчал. А Турецкий и не настаивал, он просто сидел напротив, за столом, привинченным к полу, и, не затягиваясь, курил себе неторопливо. Заговорит, куда он теперь денется…
Штурм и захват, как узнал тем же вечером Александр Борисович, произошел настолько стремительно и даже без единого выстрела, что четверо сидевших в доме за чаем так и не успели даже поставить свои чашки и стаканы на стол. По этой причине двое — Злобин и Савин — обожглись горячим чаем. Не успел оказать сопротивления Зайцев, хотя, как позже понял Турецкий, должен был, его этому долго и упорно учили, да вот сплоховал.
А о том, что учили, Александр Борисович узнал от Злобина. Этот крысеныш, полагая, что в прошлые его дела никто так и не залез, решил маленько заработать себе снисхождения от следствия. Не успели они между собой договориться — везли в разных машинах, посадили в одиночки. Вот Андрюша и стал закладывать своих подельников — первым Савина с его «проектами», которыми тот совсем задурил голову ему, Злобину, за три года совместной отсидки.
Второй был Генка Зайцев, который на самом деле Ахмед, и он у боевиков практику проходил, в Афгане был и других странах. И когда это успел ему Халметов-младший проболтаться о своих тайнах? Неужели поверил партнеру? Плохо, значит, его учили.
Ну про Олега Злобин знал только одно — тот явился главным организатором всего этого дела. И он рассказал о своей встрече с ним после колонии, о том, что сам узнал от Савина, об общих договоренностях. Олег их всех и на работу устроил, и сам следил, чтоб никто не мешал.
Про себя же Злобин сказал лишь то, что оказался слабым и подверженным чужому влиянию, в чем глубоко раскаивается.
Все это было подробно записано в протоколе допроса и подписано обвиняемым. Да, уже обвиняемым, поскольку доказательств вины оказалось более чем достаточно.
Зайцев проявил упорство. Но это — дело временное, пусть помолчит, тюремная камера учит многому. Да вряд ли и папаша его захочет, чтобы к сыну его применили самые крутые меры. Честь-то она честь, да жизнь дороже, когда у тебя в руках крупный бизнес. Поди, все возможные рычаги нажмет, лучшие адвокатские силы подключит, денег не пожалеет. Вот пусть сынок и делает выбор.
А Базанов, узнав, что всех их заложил братец, взятый на «горячем», расстроился до такой степени, что потерял контроль над собой. Стал вину переваливать на всех остальных, уверять, божиться, что сам он православный, в Бога истово верит, что был он всего лишь послушной овечкой, — врал, изворачивался, пока Поремский, работавший с ним и описавший, как они «штурмовали» его офис, не прижал его к стенке фактами. Базанов заврался и понял это сам, попросил дать ему время одуматься и сформулировать в голове свои признательные показания.
А Савин ничего не собирался «формулировать».
Он молчал. При нем после штурма, во время обыска, была найдена папка с документами. Видимо, он попросил Злобина не оставлять их в его мастерской на время их «командировки» и прихватить с собой. Лаврентьев посмотрел, полистал и плюнул — такая это была никому не нужная чушь. Тайну представляли лишь материалы, касавшиеся заложения взрывчатки. Вот это действительно представляло серьезную опасность. И надо было узнать, не прячет ли этот полусумасшедший в своей ненависти к бывшим коллегам человек еще где-то столь же опасные документы.
Турецкий попытался найти к нему подход. Он даже Гордеева пригласил, якобы разрешил тому переговорить с бывшим клиентом. Но и из этого их разговора ничего не получилось. Не захотел раскалываться Николай Анисимович, видно, он на что-то надеялся. Но на что?
Турецкий стал подбираться, пытаясь воздействовать на элементарную человеческую гордость. Это кем же надо себя представлять, чтобы скатиться до абсолютно свинского, скотского состояния? К месту пришелся и рассказ бывшего заключенного о расстреле их этапа в сорок первом, о том, как НКВД преследовал людей и после, а это — та самая «контора», в которой «имел честь» служить подполковник. И чем он лучше тех, кого так ненавидит? Сложный такой заворот придумал Александр Борисович. И ведь добился своего — разозлил Савина.
Тот начал орать, что он — мститель. Что все происшедшее — это лишь первый шаг. Что он еще скажет свое слово, и оно будет невероятно громким и последним.
Из этого сумбурного крика, больше похожего на бред, Турецкий понял, что ничего больше за душой и в тайниках у Савина нет. Он живет в настоящий момент еще не свершившимся взрывом, катастрофой, которую приготовил им всем. Кому «им», в расшифровке не нуждалось. По Савину уже не кричала, а рыдала психиатрическая клиника. Но точку надо было поставить. И Турецкий предложил ему изложить в письменном виде все свои претензии к государству, миру, бывшей своей «конторе», наконец.
Идея неожиданно понравилась Савину.
Он писал медленно, но не отрывая ручки от бумаги. Закончил, расписался, спросил, какое сегодня число, и поставил дату. После чего с пафосом произнес:
— Это мое к вам последнее слово! Мне не давали говорить, меня унижали, гноили в тюрьмах, меня даже на суде последнего слова лишили! Но я остался жив и невредим. А теперь, вопреки вашему желанию, я говорю мое последнее слово! Вот оно! — И он швырнул исписанный лист Турецкому, а сам принял позу Наполеона на известной картине Верещагина, где полководец, сложив руки на груди, мрачно смотрит сквозь кремлевские зубцы на бушующий над Москвой пожар.
Неожиданное сравнение почему-то заставило Александра Борисовича слегка поежиться. Черт его знает, что за ассоциации промелькнули. Он взглянул на текст, отметил правильное и вполне логичное построение фраз — смысл пока ускользал от него — и вдруг подумал совершенно трезво: «Какое это счастье, что последнее слово все-таки скажу я…»