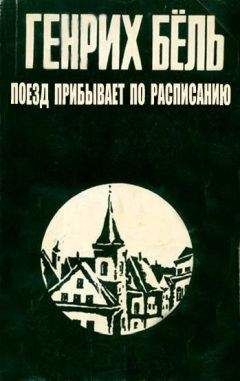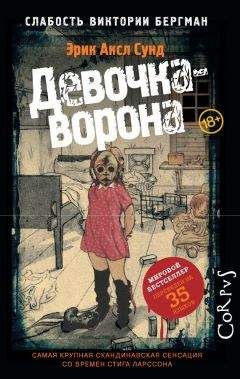Бумажные души - Сунд Эрик
– Пошли. – Валле тянет меня за рукав. – Нам на тот берег. Надо поторопиться, пока солнце высоко.
Он пока не объяснил, куда мы идем и что будем делать, – сказал только, что Старейшины повелели нам совершить нечто тайное и что мне дадут поесть. В лесу градусов семь мороза, не больше, на мне две толстые юбки, а под кожухом две шерстяные кофты, но все-таки я дрожу. Что проку от теплых вещей, если кожа тоньше бумаги, а живот, кажется, того и гляди разорвется от спазмов.
У отца Ингара с собой кусочки сахара, и иногда он дает мне их пососать. Только сахар и спасает от голода и усталости. Еще у Валле на спине мешок. Интересно, что в нем? На вид мешок тяжелый даже для Валле, высокого, сильного и жилистого. “Если бы Ингар остался жить, – думаю я, – он бы, наверное, со временем сделался как отец”.
Мы выходим на лед; солнце уже клонится к закату. Когда мы добираемся до противоположного берега, свет уже бледнеет. Несколько елей бросают густую тень на берег возле большого валуна. Валун торчит из воды, он дает пристанище ветру, который дует над озером.
Валле с глухим стуком опускает мешок на землю и развязывает его.
– Не сиди в снегу, хвост отморозишь. Лучше сходи набери камней.
Он достает из мешка несколько поленьев.
– Можно мне сначала кусочек сахара? – спрашиваю я.
– Возьми весь. – Валле перебрасывает мне мешочек. – Распоряжайся на свое усмотрение.
В мешочке осталось всего три крошащихся кусочка. Один я сразу кладу в рот, растираю по зачесавшимся деснам. Десны, как обычно, кровят, и когда я, отыскав камни для очага, приношу их Валле, слюна светится на снегу красным.
Валле складывает полешки домиком, садится на корточки и зовет меня подойти поближе.
– Вот это – свинцовая мормышка, – объясняет он, катая в пальцах блестящий шарик. – Мормыш – русское слово, так называются мелкие рачки.
Я опускаюсь рядом с ним на колени и вижу, что из шарика торчит крючок – ржавый, но на вид острый, как шило. Потом Валле достает из мешка деревянную палку.
К одному концу грубо вырезанной палки приделана катушка с леской, которая тянется к другому концу, на котором приделана металлическая петля.
– Я все сделал сам, – говорит Валле. – Мормышка – это и блесна, и грузило. Нужно еще кое-что, но такое самостоятельно не изготовишь… Приманка.
Он протягивает руку и легонько гладит меня по щеке, потом отводит мне волосы от лица и проводит за ухом пальцами. Что-то холодное и влажное щекочет кожу, и я вздрагиваю.
– Гляди-ка, кто прятался у тебя в ухе. – Валле подносит что-то мне к лицу; оно слишком близко, и я отступаю назад.
Между большим и указательным пальцами у него извивается толстый червяк.
– Подумать только – червяк может прогрызть яблоко с такой тонкой кожицей, как у тебя.
Валле смеется, бросает червяка в туесок, а туесок прячет в карман.
– Рыбу ловить нельзя, – говорю я; горло у меня горит, сердце колотится. – Это Расточительность. Это…
– Тебе надо поесть горячего, – перебивает Валле. – От тебя кожа да кости остались, а в озере полно гольцов. Старейшины согласились сделать исключение. При одном условии: то, что мы делаем сегодня – вообще все, что мы сегодня делаем, – должно остаться между нами.
Пока мы идем по льду, Валле рассказывает, что гольца проще всего ловить на мелководье, там, где берег выдается в озеро, – там лед тоньше. Мы останавливаемся, и он прорубает лед маленькой пешней. Вода с плеском вырывается из лунки, как будто ее долго прижимало ко льду и озеру давно хотелось ее выпустить.
Когда солнце начинает медленно уходить за гору, Валле достает свою удочку.
– Держать надо легкой рукой, – наставляет он, насаживая червя на крючок и опуская приманку. – Можно неподвижно, можно медленно потягивать вверх-вниз, можно тихонько подергивать леску. Главное – постоянно смотреть на конец удочки. – Он осторожно постукивает пальцем по тонкой стальной петле. – Когда кончик согнется или леска начнет подергиваться – значит, попался. Гольцы чаще всего прячутся прямо подо льдом… Вот увидишь: если нам повезет, мы их будем просто выдергивать из проруби. Все равно что картошку или морковь из земли.
Валле прав. Первый голец клюет через пару минут, а вскоре после первого и второй. Рыбины размером с его предплечье, и Валле хватает их руками. У гольца оранжевое брюшко, но кровь темно-красная, как у человека; она растекается по льду, когда Валле расплющивает маленькие рыбьи головы тупой стороной короткой, но тяжелой пешни.
– Теперь ты, – говорит он и протягивает удочку мне.
Я неохотно насаживаю на крючок червя, опускаю мормышку в прорубь и жду. Проходит минута, за ней еще одна или две, а потом я перестаю их считать.
– У меня не получается, – говорю я, все-таки глядя на удочку.
– Получится. – Валле кладет руку мне на плечо. – Просто не торопись.
Он так и стоит, положив руку мне на плечо. Рука вся в серебристых чешуйках и сладко пахнет кровью и рыбой. Но когда петля на удочке немного прогибается, Валле убирает руку.
– Теперь спокойнее, пусть рыба насадится на крючок как следует. – Он коротко улыбается мне из-под бороды. – Пусть заглотит наживку.
Я жду, когда Валле подаст мне знак, и тащу добычу вверх. Моя рыба меньше, чем его, я как раз могу обхватить ее, но чем крепче я держу гольца, тем более скользким он становится. Едва я успеваю вытащить рыбу из проруби, как она выскальзывает у меня из руки и, брызгаясь, шлепается на лед.
– Справишься? – Валле протягивает мне пешню. Тупой конец весь в крови, и я качаю головой.
– Хочешь съесть рыбу – придется ее убить. Если не можешь убить ее пешней, тогда растопчи.
Я киваю, развязываю мешочек с сахаром и сую в рот два последних кусочка. А потом подхожу к гольцу, который бьется на льду.
Рыбу мы едим, когда над озерцом уже сумерки. Мы сидим на шерстяном одеяле; мне тепло и внутри, и снаружи. Потрескивает огонь, вкусно пахнет гольцом – примерно как когда я поджариваю яйца на плите. Вкус у розовой мякоти маслянистый, голец совсем не похож на яйца. Я ем не потому, что мне хочется, а потому, что так наказали Старейшины.
Размозжить гольцу голову оказалось не труднее, чем насадить червяка на крючок, но у меня до сих пор комок в животе. У гольца были настоящие глаза, я видела, как в них угасала жизнь, когда я топтала его. Потом он лежал мертвый, ожидая, когда его почистят, и глаза у него подергивались белым тонким льдом.
Валле дает мне выпить чего-то крепкого, острого и сладкого; от напитка внутри делается тепло и спокойно. Меня клонит в сон. После еды я ложусь на одеяло и закрываю глаза.
В последний раз мы с Ингаром касались друг друга на заброшенном хуторе почти полтора года назад; я тогда лежала на одеяле примерно так же, как лежу сейчас. Мне снова кажется, что он там, сзади, словно я навсегда сохранила в памяти те прикосновения.
От приятного спокойствия и тепла я погружаюсь в собственные мысли, и когда Валле начинает говорить со мной, его голос звучит словно издалека.
– Помнишь, я говорил, что о наших сегодняшних делах никому нельзя рассказывать? Обещаешь не рассказывать?
Я приоткрываю глаза и в эту щель вижу смутную фигуру – он сидит по ту сторону оставшихся от костра углей.
– Обещаю, – бормочу я.
– Тебе скоро восемнадцать, ты взрослая женщина, – продолжает Валле. – Аста больше не может иметь детей, а Ингар умер. Теперь это наш с тобой долг…
Как приятно лежать, дремать.
Если я смогу сейчас заснуть и увидеть во сне Ингара, то, когда проснусь, у меня на глазах останутся сонные слезки. Я собираю их в чашку, что стоит дома под кроватью.
– Стина, ты слушаешь?
Я начала собирать желтоватый налет, который по утрам, после сна, остается в уголках глаз. Чаще всего мне снится Ингар, и если собрать много золотисто-желтых сонных слезок, они превратятся в большое семя, которое можно будет где-нибудь посадить.
Из семени родится дерево, разрастется, станет большим и пышным. Я назову это дерево Тинтомара.