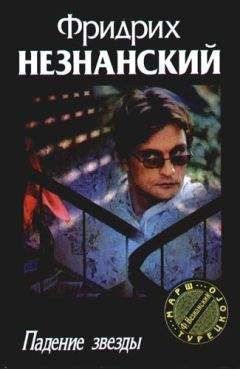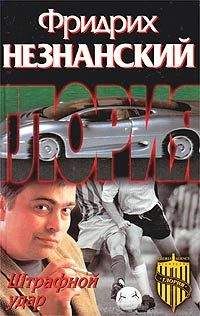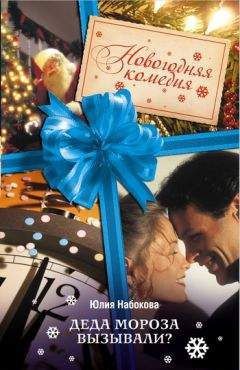Фридрих Незнанский - Финиш для чемпионов
Точнее, Грязнов и Турецкий узнали в этом существе Гордеева главным образом потому, что они знали: в данной комнате алоевского дома обязан находиться Гордеев. Но как трудно было поверить, что господин адвокат — пусть немолодой, но сильный, элегантный, по-прежнему удостаивающийся женского внимания — способен превратиться в этого сморщенного гнома! Беспомощный старичок, кожа да кости, настолько плоский, что рельеф его тела почти не выдавался над матрасом, испачканным кашей и испражнениями. Огромные на усохшем лице, замутненные недавним сном глаза беспокойно задвигались.
— Саша… Слава… — Голос Гордеева изменился меньше, чем можно было бы предположить по его общему состоянию, но стал прерывистым и хриплым. — Это правда вы… или снова галлю…цинации?
— Мы это, Юра. — Сердобольный Слава Грязнов едва не прослезился, склоняясь над телом… то есть, тьфу, какие глупости лезут в голову!.. просто-напросто над пострадавшим другом. — Ты, пожалуйста, не разговаривай, если тебе трудно говорить.
— Что… очень… плохо?
— Ничего, Юра, — вступил Турецкий. — Пустяки, ничего страшного. У тебя обыкновенное обезвоживание. — Кажется, у него действительно обезвоживание. Хотя и трудно себе вообразить, что можно увидеть такую степень обезвоживания не в пустыне Сахара, а в подмосковной Перловке! Что же с ним тут делали? Каким образом до этого довели? В спертом духе комнаты различался въедливый медикаментозный запах: должно быть, какая-то отрава из арсенала «Фармакологии-1» совершила над Гордеевым это страшное превращение. — Врачи тобой займутся и быстренько вернут тебя в норму.
— Заберите… меня… отсюда…
— Заберем, заберем, — успокаивающе погладил его Слава по тощей потемнелой руке. — Куда мы денемся. Неужели здесь бросим?
Турецкий беспомощно огляделся: нет ли в комнате чего-нибудь, что могло бы послужить носилками? Страшно было трогать Юру Гордеева с места, но и оставлять его на этой кровати из кошмаров до прибытия «скорой помощи», которой придется забрать не одного, а двух пациентов, он не хотел. Как его перенести: на матрасе? Вместе с кроватью? Наиболее подходящий вариант — одеяло: следовало надеяться, достаточно прочное, чтобы выдержать уменьшившийся вес тела адвоката. И таким образом, Гордеева поместили в центр расстеленного одеяла, которое, держа за края, шестеро сильных мужчин вынесли за пределы этой комнаты пыток.
Так выносят с поля боя раненых.
47
Едва опустившись в кресло самолета, Дэвид Гросс немедленно извлек из сеточки спальный набор: плед, темные очки на широкой резинке и надувную подушку-полукольцо. Самолет, предназначенный для американских дипломатических работников, сулил много радостей для временно пребывающих в полете. Можно было заказать блюда по выбору, пролистать свежую прессу на двух языках, посмотреть телевизор. Удобные кресла позволяли также работать с бумагами или ноутбуком без малейших помех. Тем не менее Дэвид Гросс еще до того, как шасси самолета оторвалось от взлетной полосы, поспешил нацепить на себя спальную амуницию. Нет, он не страдал от чрезмерной усталости, и время было вовсе не позднее. Дэвид Гросс попросту хотел отгородиться пледом и непроницаемыми очками от всего мира. Там, в темноте, он чувствовал себя относительно защищенным. По крайней мере, темные очки гарантируют: никто не станет заглядывать ему в глаза. Необходимость смотреть людям в глаза прежним прямым, честным и непреклонным взглядом, составлявшим немалую часть его слегка тяжеловесного обаяния, в течение последних суток нервировала Гросса.
Позор, позор! Мысль его постоянно возвращалась к одному и тому же эпизоду: праздник на вилле депутата Алоева. Как торжественно его там принимали — и как поспешно выпроваживали! Потайными тропами… Он выбирался между шершавыми заборами, то деревянными, то каменными, топча и ломая заросли вольных сорняков, которых не касалась рука рачительного садовника. Раздавленные сорняки благоухали первобытной, примитивной природой, и Дэвид Гросс, несмотря на панику, вдруг остро припомнил, что равный по пряной дикости запах он обонял только в возрасте двенадцати лет, на ферме у дяди, после того как взошла самая крупная в его жизни луна.
Лунный свет, обычно сопутствующий беглецам, не желал скрашивать одиночество Дэвида Гросса, и он спотыкался в темноте. Порвал правую брючину, рассадил икру о завиток толстой медной проволоки, торчащей из земли, наступил во что-то скользкое — во что именно, принюхиваться он на сей раз не пожелал. Обтрепанный, слегка окровавленный, не сказать чтобы невредимый, но, в общем, более или менее целый, Гросс выбрался к станции — как раз в тот момент, когда к платформе подползала, будя перловский мрак огнями, электричка. Последние три метра забега превратились в потрясающий финал, потребовавший сверхчеловеческого напряжения, и Гросс отметил с холодным, как бы не имеющим к нему отношения юмором, что в данный момент от анаболиков не отказался бы даже он. В вагоне, рухнув на обитое жесткой кожей сиденье, Дэвид первым делом схватился за пульс. Пульса не было.
«Ну точно, — заполняя той же холодной юмористической отстраненностью мучительные секунды, подумал Дэвид Гросс, — я же умер. Такая чепуха не имеет права происходить со мной, это предсмертный бред. Или… как звучит это русское религиозное слово?.. муты… мыта… мытурства? Загробные странствия души…»
Пульс появился не сразу, но все-таки появился. В течение двух-трех минут сердце колотилось о грудную клетку так, словно хотело разбить изнутри свою костную тюрьму. По истечении этого срока Гросс оказался снова способен контактировать с внешней средой и немедленно выяснил, что поезд едет не в Москву, а, наоборот, от нее удаляется. Как назло, у торгпреда США совершенно не было при себе русских денег! Ни на покупку билета, ни на выплату штрафа — на его счастье или несчастье, контролеры в такое позднее время обычно по вагонам не шастают, а пьют себе чай в семейном тепле и уюте. За окнами разворачивалась вдоль и вширь однообразная, таинственная, страшная Россия-во-мгле, кое-где разжиженная пристанционным голубоватым люминесцирующим сиянием и разноцветными огоньками городков Подмосковья. Почему только дипломатам не дают уроков поездки на туземном транспорте?
Удрученный Гросс сошел на первой же крупной станции (ею закономерно оказались Мытищи), чтобы под заинтересованными взглядами группки местных парней и девушек, увешанных серебряными цепями, крестами и медальонами, одетых сплошь в черное и с черными же, явно крашеными, поставленными дыбом волосами, упросить первого попавшегося таксиста доставить его в столицу. На бумажку в пятьсот долларов таксист, похожий на цыгана, покосил продолговатым глазом, словно норовистый конь, и молча распахнул переднюю дверцу своего средства передвижения. Последнее, что Гросс успел увидеть на привокзальной площади, — лица образчиков мытищинской молодежи, то ли разочарованные, то ли полные неудовлетворенного любопытства… а далее водитель с места в карьер заложил такой крутой вираж, что нижние зубы торгпреда едва не впечатались навечно в его же верхнюю челюсть. До следующего поворота Гросс успел накинуть ремень безопасности. Убедившись, что клиент не расположен к общению, цыганистый таксист включил радио. Одна из станций FM тут же заполнила салон автомобиля незамысловатеньким диско середины восьмидесятых. Асфальтовая, кое-где покореженная превратностями русского климата дорога, расстилавшаяся впереди при свете фар, не вызывала эмоций и не отвлекала от размышлений.
А поразмышлять было над чем! Только теперь Дэвид Гросс смог как следует оценить ситуацию. Ситуация выглядела невесело. Он слишком хорошо представлял, что на виллу к Алоеву нагрянули представители органов власти. Кто бы мог подумать! Да, как видно, человек в депутатской должности больше не является священной коровой: за противозаконные поступки придется отвечать даже и ему. Страшно вообразить, что было бы, если бы у него застали Гросса! Но опасность не миновала: Алоев способен выдать иностранного сообщника. А если не он, так кто-нибудь из его подчиненных… «Фармакологии-1» пришел конец, в этом нет сомнения. Сколько еще причастных к ней лиц утянет за собой эта организация? «Иисусе, помоги мне!» — взмолился отпрыск своих честных предков Дэвид Гросс…
— А с какой стати ему помогать? — рявкнуло вдруг радио.
Случайная реплика в ахинее, которую нес диктор, заполняя паузу между музыкальными номерами, обрушилась на Гросса, как топор. Все, происходившее с ним после поспешного выдворения из дома Алоева, было мистично. Слишком даже мистично.
«Иисусе, — еще раз, безнадежно, обратился в высшие инстанции Гросс, — я виноват, сознаюсь… Не надо было соглашаться на эту должность. Пусть бы лучше другие, я не в состоянии хладнокровно превращать здоровых людей в больных, добряков — в агрессивных хулиганов. Это грех, это грех… Но я делал это для своей страны. Я не имею права отвечать перед местным правосудием. Пожалуйста, избавь меня от этих неприятностей. А я обещаю уехать из России. О’кей?»