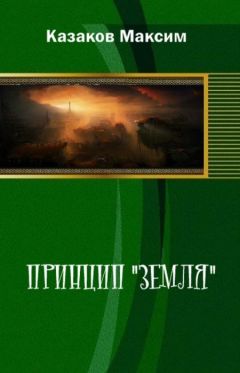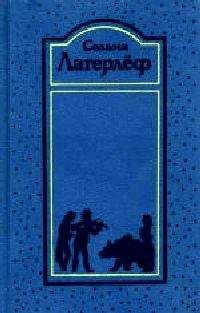Арне Даль - Мистериозо
Они поблагодарили Альберто, забрали кассету и собрались уходить. Но Альберто добавил из темноты:
— Копия записи в обмен на эти диски.
Черстин Хольм взглянула на диски с григорианской музыкой, которые она держала в руках. Она совсем забыла про них.
— Сколько времени это займет? — спросил Чавес, опередив протесты Йельма.
Альберто рассмеялся и нажал на кнопку. Из щели стереосистемы выскочила кассета.
— Я уже скопировал, — пояснил он с широкой улыбкой.
У Джима Барта Ричардса действительно была такая белая кожа, какой Йельм никогда не видел. Они застали его довольно трезвым в стильной однокомнатной квартире в Старом городе. Ему было около пятидесяти, и волосы у него были такие же белые, как и кожа. Он лежал в шортах и футболке на матрасе на полу.
— Вы наверняка слышали о новом направлении в американском джазе, — сказал Чавес. — Анти-саморазрушительном. Братья Марсалис и другие более радикальные ребята. Не думаете ли вы, что настала пора сдать в архив этот миф об аутсайдерах?
— Традиционалисты! — изрыгнул из себя Белый Джим на своем американском шведском. — Думают, что можно создавать музыку, зазубрив всю музыкальную историю. Как будто это школьный предмет. Where does their fucking pain come from! Books? Fucking mother’s boys! Those who talk don’t know, those who know don’t talk.[53]
Йельм и Хольм обменялись быстрыми взглядами.
— Они создают новое, познавая все, — настаивал Чавес. — Это не так уж странно. Они знают каждый риф, каждый маленький пассаж, каждый маленький фрагмент в истории джаза. Именно оттуда они черпают ту силу и ту боль, которая им необходима. Они могут пользоваться вашими достижениями, не повторяя ваших ошибок. Это совершенно новый подход к искусству!
— Это очень старый подход к искусству! — сказал Ричард со сдерживаемым бешенством. — Как раз такой, от которого нам только что удалось избавиться. А вы хотите нас вернуть в эту чертову эру повторений! Я рад, что вы никогда не играли со мной, Хорхе!
— Это вы повторяете сами себя, потому что не знаете истории! Вы думаете, будто создаете новое, потому что накачаны наркотиками настолько, что не видите, что все это уже было создано. Ваше уникальное самовыражение — это просто длинная череда дурацких повторов, самообман худшего сорта. Единственный способ на самом деле создать что-то новое состоит в том, чтобы изучить все, что уже было создано. Только после этого можно говорить о начале нового. О новой эре в истории. Но такой эре, которая содержит в себе все прошлые.
— Теоретическая болтовня! — отмахнулся Белый Джим и нюхнул кокаина. — All the pain comes from in here![54] — И он ударил себя в костлявую грудь, каждое ребро которой явственно проступало под грязной футболкой. — Звучит сомнительно. You can never replace the direct feeling![55]
— Именно об этом и речь! — закричал Хорхе и начал нарезать круги по грязной квартире. — Это исчерпало себя! Не отсюда вы берете свое вдохновение. Боль должна всегда преобладать над формами. И правда в том, что вы этого не видите. Вы заменяете чувство наркотическими видениями и изобретаете велосипед заново, раз за разом, и все время думаете, что это именно вы изобрели его. Ваша подлинность жульническая!
Йельм уже начал беспокоиться, что они потеряют Белого Джима, едва найдя его. Было похоже, что их сейчас выставят за дверь. Но вместо этого Джим Барт Ричардс сел на матрасе, громко хохотнул и хлопнул ладонью по полу возле себя. — Sit down, for God’s sake![56]
Хорхе сел, взял бутылку «Джек Дэниелс», которую Белый Джим достал непонятно откуда, и сделал хороший глоток.
— Музыкой тебе надо заниматься, — сказал Белый Джим. — А не идти вон в эти. — Он указал на Йельма и Хольм. — Для тебя это серьезно.
— Они знают о музыке больше, чем ты, — сказал Чавес.
И оба они рассмеялись. Йельм понимал все меньше и меньше.
Черстин Хольм спокойно сказала:
— Например, мы знаем о маленькой импровизации «Risky», которую играли Монк, Гриффин, Малик и Хэйнс и которую ты пытался втихаря продать около десяти лет назад.
Белый Джим удивленно уставился на них. А затем расхохотался.
— Черт возьми, долго же работает ваша разведка! All the priorities in their right places.[57] Три копа на одного бывшего саксофониста! I’m deeply honoured, people![58]
— Мы здесь не для того, чтобы арестовывать вас. Мы только хотим узнать, кто ваши покупатели.
— Не так уж много их было, you know.[59] Когда Ред Митчелл привез меня сюда в середине шестидесятых, я уже слышал, что вы — маленький, но очень любящий джаз народ, живущий на севере у моря, и потому скопировал столько, сколько смог. Не только из этого, но и из многих других записей — оригиналов, предоставленных мне Гриффином в начале шестидесятых. Как вы знаете, я здорово играл с Джонни, тогда еще молодым, зеленым и полным энтузиазма. Он сказал мне, что есть много неизданного, относящегося ко времени «Файв Спот Кафе», например, «Round midnight», «Evidence», «Risky»… ну и много всякого другого. Большая часть сейчас уже издана, потому что этому — как его? — продюсеру Кипньюсу понадобились деньги. Но «Risky» и еще некоторые — это мои любимчики. Они пока не издавались. Да, черт возьми, у меня еще с американских времен осталось десять катушек с записями, и я пытался толкнуть их. Эта катушка с «Risky» была одной из последних, где-то восемьдесят пятого — восемьдесят шестого года. Тогда у меня уже появились постоянные покупатели. Их было пятеро, и не все из них соглашались платить зелеными за полупиратские записи. Ведь это же было, черт возьми, нелегально! У меня не было никаких прав. Кстати, у меня и сейчас есть еще пара катушек, это мне на пенсию.
— Означает ли это, что у вас сохранились адреса тех, кто купил у вас копии «Risky»? — серьезно спросила Черстин Хольм.
— Sure.[60] С начала восьмидесятых это всегда были одни и те же покупатели. Любители джаза? Возможно. Любители курьёзов? Без сомнения. Если вы их не посадите, я дам вам адреса. Два в Стокгольме, два в Гётеборге, один в Мальме. Big sity democracy,[61] черт подери. Где-то у меня была маленькая золотая записная книжка…
Они начали поиски в невероятно захламленной квартире, заполненной самыми разнообразными предметами, как то: засушенная голова удава, которая лежала под столом и рассыпалась в прах в руках у Йельма, грязная одежда, обувная коробка с польскими злотыми, опять грязная одежда, антикварный финский порножурнал с черными губами, сжимающими член, еще грязная одежда, несколько метательных ножей из Ботсваны, невероятно большая куча грязной одежды, тринадцать разбросанных по углам немытых пивных кружек, виниловая пластинка без конверта, но с автографом Билла Эванса прямо на звуковых дорожках, несметное количество ресторанных счетов…
— А зачем ты хранишь ресторанные счета? — спросил Чавес и вытащил золотую записную книжку из недр совершенно заношенных подштанников.
— В налогово-технических целях, — ответил Белый Джим и смочил горло еще одним глотком «Джек Дениэлс».
Чавес записал имена и адреса на одном из ресторанных счетов и отдал записную книжку Белому Джиму, который тут же швырнул ее в угол комнаты, шумно вздохнул и тут же заснул сидя.
Чавес и Хольм уложили его на матрас и укрыли одеялом его белое, как мел, тело.
— Он, — сказал Чавес, когда они вышли на солнышко, — очень большой музыкант.
Черстин Хольм кивнула.
А Йельм не знал, стоит ли этому верить.
Чавес неохотно вернулся в полицейское управление. Йельм высадил Черстин поблизости, у дома, расположенного по одному из взятых у Белого Джима адресов, а сам поехал по другому адресу, подальше.
Черстин Хольм отправилась к отставному майору Эрику Родхольму на Линнегатан. Он оказался элегантным джентльменом, перешедшим рубеж среднего возраста, и его страсть к небанальным джазовым композициям была столь же грандиозной, сколь и неожиданной. Как позднее описывала его Хольм, он производил впечатление человека, для которого ритм и такт важны одинаково, и Карен Соуз — его идеал. Но это было ложное впечатление. Он собрал огромную коллекцию пиратских джазовых записей из самых сомнительных клубов — от Карелии до Ганы. Поначалу он не хотел признаваться, что владеет чем-либо незаконным, но в результате применения метода, который Черстин не захотела раскрывать, не без гордости показал свою неординарную коллекцию, спрятанную в задней стенке вертящейся книжной полки. Он клялся «отечеством и флагом», что ему никогда не приходила мысль скопировать хотя бы одну из этих уникальных композиций. Хольм видела и, разумеется, слышала экземпляр композиции «Risky», принадлежавший майору Родхольму. Она также задержалась на два часа, чтобы прослушать выступление Лестера Янга в Зальцбурге и Кении Кларка в отеле Худиксвалль.
А Пауль Йельм поехал в Мэрста, где посетил инвалида Рогера Пальмберга. Когда-то Пальмберг угодил под поезд, почти добровольно, как сам он признался через электронное речевое устройство. Единственное, что осталось в Пальмберге неповрежденным, так это слух, но зато развился он просто необычайно. Йельм и Пальмберг прослушали композицию «Risky» Белого Джима, и инвалид объяснил полицейскому каждый звук: что именно происходит, где происходит, почему происходит. Йельм сидел, как зачарованный. Он все больше сомневался в выражении «те, кто говорят, не знают, те, кто знают, не говорят». Внутри этого изуродованного тела жил наиутонченнейший слушатель — и не только музыки, но и слушатель вообще. Одним лишь своим умением внимательно слушать он заставил Йельма рассказать почти все о деле, которое тот расследует. Пальмберг счел, что эта запись чрезвычайно интересна, дал слово, что невиновен в ее распространении, и в обмен взял с Йельма обещание связаться с ним, когда дело будет раскрыто. Записи Пальмберга не слышал никто, кроме него самого, во всяком случае до этого момента; он без обиняков признался, что к нему попросту никто никогда не заходит. Пальмберг был совершенно одиноким человеком и уже притерпелся к этому. Всю свою уникальную внимательность он направлял на музыку. Они прослушали еще две композиции Джима Барта Ричардса конца шестидесятых, и Йельм вдруг ясно понял, что за человека он встретил в убогом жилище в Старом городе. Покидая наконец бедную однокомнатную квартирку, «приспособленную для проживания людей с ограниченными возможностями», он уже знал, что обрел на другом краю Стокгольма близкого друга.