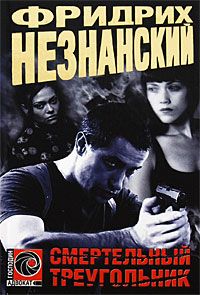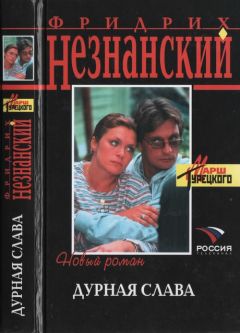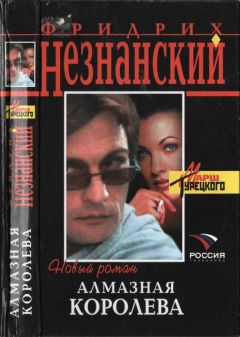Фридрих Незнанский - Продолжение следует, или Наказание неминуемо
Приехавший к ней Александр Борисович был уверен, что его ожидает в лучшем случае судьба всех вестников несчастий, с которыми еще с древнейших времен поступали одинаково — отрубали головы. А в худшем, если и такой вариант предусмотрен в уголовном законодательстве, — отводилась тяжкая роль непосредственного виновника смерти тех, кому он приносил горькую весть. В данном случае не только подозреваемого в гибели дочери, но и обвиняемого в смерти ее матери. Только такой исход и рисовался перед ним. Но… надо было держаться до конца.
На его счастье, если таковое уместно поминать в данной ситуации, старушка оказалась гораздо крепче характером да и здоровьем, чем он предполагал. Вероятно, она уже знала о нем от дочери — слышала и однажды, кажется, видела — в один из его приездов в Ригу. Когда они с Эвой на минутку забежали к ней домой, спасаясь от сумасшедшего ливня. Поэтому и встретила она его без воплей и слез, заламывания бессильных, старческих рук и каких-либо обвинений.
А что ей оставалось, если вдуматься? Елена Георгиевна сама заговорила об этом несколько позже. Сказала, что когда ей позвонили и сообщили, она почему-то сразу поверила, что это не обман. Почему? Живет долго… Ночь не спала, а утром поняла, что случившегося уже не исправить и надо исполнять свой долг — дочь предать земле, рядом с могилой Теодора, где и ей самой тоже уготовано законное место. И продолжать хранить память о любимых, нести дальше свой крест, пока силы не оставили, и Господь еще направляет…
Она не думала о тяжкой, голодной старости. Благодарение Богу, Эва хорошо работала и очень хорошо зарабатывала. Она была славной девушкой, доброй и нерасточительной. Но так и не нашла своего женского счастья, не вышла замуж, хотя предложений было немало, может быть, хранила что-то в себе, какую-нибудь тайну, которой так ни с кем и не пожелала делиться, даже с родной матерью.
Елена Георгиевна полулежала в глубоком, видно, еще довоенном, а может, и дореволюционном кресле и медленно говорила. А Турецкий скорчился на маленькой скамеечке возле ее ног и молча слушал эту странную, мертвенно спокойную исповедь. Он, наверное, впервые увидел такое горе — не громкое, отчаянное, взрывное, испепеляющее душу, а почти невидимое и неощутимое, после которого остается только пустота. Полная и окончательная. И никакие слова утешения, никакие обещания типа приезжать, помогать и прочее не были нужны. Более того, любые попытки моральной поддержки казались неуместными, даже неприличными — своими попытками что-то сгладить, как-то скрасить, чем-то успокоить, а в общем, тихо обмануть.
Но об одной детали следствия все же позволил себе упомянуть Турецкий. Он считал, что в любом случае Елене Георгиевне нужно обратиться к толковому адвокату, который смог бы защитить ее права после гибели дочери. И такой адвокат у него был, с ним Александр Борисович как раз собирался сегодня же встретиться. Это его бывший коллега, перешедший в адвокатуру и имеющий теперь свое адвокатское бюро, расположенное здесь же, поблизости, в Майори.
Старушка отреагировала индифферентно — ни да ни нет. Впрочем, скорее, может быть. Надо будет и это иметь в виду, напомнил себе Турецкий.
Единственное, что ей твердо пообещал Александр Борисович, это похоронить Эву достойно. И старушка кивнула ему со слабой улыбкой. Поверила в реальность исполнения обещания. А затем она потеряла интерес к Турецкому, углубившись в себя и словно полностью отрешившись от мира. Зачем ей знать какие-то подробности смерти или ее причины, если ничего исправить уже нельзя? Да, по-своему мудро. Или спасительно…
Он попрощался, но Елена Георгиевна уже не обращала внимания на его присутствие. Вокруг нее властвовала пустота, и незачем было даже пытаться заполнить ее ненужными предметами или звуками.
Вышел к морю, чувствуя, что и на его плечи начинает странно и очень неприятно давить тяжкая пустота. Никого же нет вокруг — только тонкие сосны, качающиеся на дюнах, белые гребешки беспрерывно набегающих волн да ледяной ветер. И отвратительно громкие, пронзительные и будто царапающие горло крики безалаберных чаек.
Резкие порывы холода били в грудь, и Александр Борисович, будто ложась на ветер, проваливался на каждом шагу в сыпучий песок и задыхался, потому что не хватало воздуха. И не шел он, а медленно брел, передвигал ноги под пригибавшей его тяжестью.
«И на кой черт мне это надо было?!» — медленно и больно проворачивалась в голове раз за разом беспомощная мысль. Злясь, но и не пытаясь искать оправданий, он бичевал только самого себя. Так выходило, что, не вмешайся он в жизнь Эвы со своими нелепыми фантазиями, со слепым своим эгоизмом, женщина была бы жива. И они могли бы еще встретиться в Москве… И позже, потом, может быть, через год, зайти наконец в Домский собор на обещанную ему Эвой мессу Баха… Могли бы, если бы… Увы, нет сослагательного наклонения у прошлого…
Но, как бы там ни было, а прилетел он сюда не только с утешением, если теперь его чувства можно было так назвать, но и с жестким, бескомпромиссным чувством мести, альтернативы у которого не существовало.
Меркулов по его просьбе «напряг» свои старые связи в Латвии. Да и сам он внимательно перелистал свои прежние записные книжки, проведя дома почти сутки. Нелегкие сутки, разумеется…
Ирина, конечно, все понимала. Ее проинформировали коллеги из «Глории» — по просьбе, кстати, самого Александра Борисовича. Таким образом, он, откровенно лукавя перед собой, пытался отвести грозу. Но жена, как выяснилось, оказалась умнее и не стала устраивать никаких изнурительных разборок, а только всерьез посочувствовала мужу, снова «влипшему» в неприятную историю.
А впрочем, по ее настроению было заметно, что нелепая смерть Эвы ее тоже глубоко задела. Та была ей искренне симпатична, и обостренных, ревнивых чувств по отношению к легкому и к тому же давнему уже флирту мужа и Эвы Ирина и прежде не испытывала. Да, горько, конечно, очень печально, что так случилось… Ну, разумеется, нужно поехать в Ригу, помочь, поддержать мать, насколько это вообще возможно, ведь она совсем старенькая и, кажется, одинокая. Конечно, необходимо сочувствие. Тем более что, в трактовке Турецкого, убийство Эвы явилось такой вот изощренной формой мести преступника засадившему его в свое время следователю. Александр Борисович, правда, не стал углубляться в детали преступления, потому что прекрасно понимал, как далеко они могли бы завести Ирину в ее размышлениях, а главное, в выводах. К тому же и Эва — вольно или невольно — поспособствовала, к сожалению, своему трагическому финалу, хотя личной ее вины здесь не было никакой, да и не могло быть. Просто оказалась она, как нередко случается, не в том месте и не в то время. Откажись она перед тем мерзавцем от знакомства с Турецким, и осталась бы живой. А она не отказалась… О своей же роли Александр Борисович и не упомянул, отлично помня завет Великого иезуита: «Все, о чем я промолчу, мне не повредит…»
Но теперь приходилось всерьез думать о следующих возможных шагах преступника, если тот еще не «насытил» жажды своей грязной мести. Однако свободная, как говорится, «от вахты» сотрудница «Глории» Алевтина Григорьевна Дудкина после звонка Турецкого из Воронежа кинулась сама проверять по билетным кассам списки пассажиров. Немного опоздала, по ее словам, а то могла бы еще и перехватить убийцу. Правда, каким бы образом она это сделала, Аля как-то и не задумывалась. Да к тому же и самолет на Ригу с пассажиром по фамилии Городецкис на борту был уже целый час в воздухе, когда она обнаружила его фамилию. А отношения с нынешней латвийской полицией, как ей было известно, не имели ничего общего с теми, что существовали при советской власти. Требовались аргументированные запросы по дипломатическим и политическим каналам, которые в один день не делаются. Оставалось ожидать прибытия самого Турецкого и тщательно подготавливать почву для дальнейшей совместной уже работы, если он захотел бы все-таки изловить преступника на территории суверенного государства.
Одно успокаивало Александра Борисовича: за Ирину можно было не волноваться. Хотя она, как он видел, и не собиралась как-то беспокоиться по поводу собственной безопасности.
За сутки, проведенные дома после возвращения из Воронежа, Турецкий, собственно, у себя в квартире находился недолго. Он побывал у Меркулова, в Генеральной прокуратуре, в латвийском посольстве, где ему проставили визу, и, разумеется, в «Глории». Причем, если Ирина отнеслась к событию в общем-то с нормальным, хотя бы внешне, пониманием, то Алевтина в агентстве продемонстрировала необычную для нее сдержанность. Даже отчасти сухость. Видимо, она все же подозревала, что простым присутствием в воронежской гостинице участие Саши в деле погибшей женщины не ограничивалось. Интересно, откуда такое подозрение?! Александр Борисович немедленно изобразил недоумение и озабоченность, свойственные скорее крутому политику, нежели частному сыщику. Но Аля и не собиралась ему ничего объяснять, ибо по какому-то наитию считала свои подозрения далеко не беспочвенными. Но и она тоже не хотела разборок, может быть, полагая, что еще не имеет на них права. Пока не имеет — это ясно читалось в ее прищуренном, ироническом взгляде. Вот же чертовы бабы! Ну конечно, Турецкому сейчас только и было дело до этого!