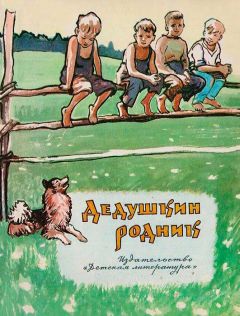Аркадий Вайнер - Гонки по вертикали
— Это хорошо, Стас. Я не хочу, чтобы двигалось время, я не люблю завтра. Я тебя сегодня люблю. Тебя в сегодня, тебя в сегодня, — повторяла она в полусне, и я тонул в ней радостно, как в светлом омуте, и весь мир, бесконечный, бездонный, замыкался в ней, и счастье становилось невыносимым, как боль, потому что я уже знал — завтра наступило, и никогда, никогда, сколько бы я ни прожил, я ни с кем не смогу снова войти в эту безмерную реку любви.
Она провела ладонью по моему лицу и сказала:
— Стас! А, Стас? Давай уедем отсюда…
— Когда? — спросил я в полузабытьи.
— Сейчас.
Я приподнял голову в увидел, что она плачет.
— Я не хочу, чтобы завтра приходило сюда, — сказала она. — Я хочу, чтобы все это навсегда осталось у меня в сегодня…
— Почему? — спросил я испуганно.
— Я хочу, чтобы через много лет — когда бы я тебя ни встретила — эта ночь была со мной. Чтобы она не стала вчера. Чтобы она оставалась сегодня…
В Москве на вокзале стояли гам и толчея, суетились на площади носильщики и таксисты. Над головой летели облака удивительного красного цвета, и было от них светло, и лица людей были похожи на камни в костре…
Глава 20
За правду борется вор Леха Дедушкин по кличке Батон
Я проснулся от острого ощущения, что кто-то смотрит на меня.
— Чего уставилась? Знаешь ведь, что я ненавижу, когда во сне на меня смотрят…
Зося засмеялась:
— А когда же мне на тебя еще смотреть? Ты, как проснешься, сразу куда-нибудь лыжи навостришь.
Я притянул ее к себе, поцеловал и снова подумал, какое у нее молодое, упругое и мягкое тело. Она отодвинулась, тихо сказала:
— Не надо, Алеша, не надо… Светло совсем, не люблю я, нехорошо это…
— А чего же плохого? Нет ведь никого!
— Не знаю, все равно нехорошо. Для этого ночь есть…
— Ага! То-то мы с тобой раньше ночами нарадовались!
Когда я только сошелся с Зосей, у меня, как и всегда, не было постоянного жилья, а она жила в одной комнате с матерью — злющей усатой полькой, от которой ей житья не было. Когда мы ложились спать, стоило мне только шепнуть слово Зосе, мать из своего угла спрашивала басом:
— Зося, что он тебе сказаув? — Она так говорила, будто засасывала обратно в рот концы фраз.
Зося ей чего-нибудь буркнет в ответ, а та со слезой:
— Зося, у тебя есть секреты от мамуси?
Вот так мы и любились, пока я не снял отдельную комнату, да вскоре подвернулось хорошее дело в Челябинске, а потом я решил повременить с возвращением в Москву на всякий случай и поехал мотать монеты в Минводы, а когда деньжата кончились, вдруг сообразил, что неохота мне к Зосе возвращаться, уж больно все там всерьез начало у нас разворачиваться и замаячил в недалеком будущем загс, а вору женитьба — как зайцу стоп-сигнал. А еще через полгода загремел я в тюрягу и уже из колонии написал Зосе открыточку, не очень-то надеясь получить ответ. Но Зося писала мне все время, и передачки слала, и раз на свиданку приезжала, хотя отбывал я на этот раз не в Минводах и не в Сочах…
Потому я и напомнил ей про наши ночные радости, но она хоть и мягкая, а очень упрямая всегда была. Покачала головой и говорит:
— Нет, Алеша, хорошим людям для этого ночь дана…
Глупые у нее представления какие то были — это, наверное, от плохого воспитания. И злорадно сказал ей:
— Это точно. Все самые лучшие дела люди ночью делают. Мы с тобой делаем приятные дела. А когда я один, без тебя, то я свои дела тоже лучше всего ночью обделываю… — Она бессильно и испуганно развела руками. — Смотри, Зося, — сказал я жестко и весело, — как бы тебе совсем не стать дневной женщиной.
— Это как?
— А так: ты сначала с мамусей своей замечательной жила, а теперь работаешь всегда по ночам, у тебя для любви ночного времени не остается, и с твоей стыдливостью останешься без мужика.
— Что-то ты заботишься обо мне больно, не к добру это, — усмехнулась Зося.
Я почувствовал, что она сейчас рассердится или обидится на меня, а я не хотел, чтобы она сейчас на меня сердилась или обижалась, не нужно это мне сейчас было, мне требовалось, чтобы она меня любила, как в первые наши дни. Я поцеловал ее еще разок и сказал:
— Не обращай внимания. У меня стал склочный характер.
Зося радостно засмеялась:
— Вставай скорее, завтрак готов…
Мы ели сосиски, поджаренные в яйце хлебные ломтики, пили крепкий сладкий кофе, и, может быть, оттого, что не было тряской сутолоки колес под ногами, въедливой вагонной пыли, пронзительной карбидной вони вокзальных сортиров и я совсем не чувствовал невольного напряжения побега от возможно близкой погони, — но именно во время этого завтрака в маленькой, очень чистенькой кухне Зосиной квартиры я подумал на мгновение; а может быть, действительно завязать? И потому, как я испуганно и торопливо прогнал эту быструю, короткую мыслишку, я понял: чтобы завязать, мне надо гораздо больше смелости, чем продолжать и дальше воровать.
Зося собиралась в магазин, а я лежал на тахте и обдумывал текст письма, которое мне сейчас надо было соорудить. Письмо для меня было очень важным, думал я о нем сосредоточенно и в этот момент был, наверное, похож на своего папаню, когда он боролся за правду. Зося заглянула в комнату:
— Ну я пошла. Скоро вернусь…
— Погоди. Ты Сеньку Бакуму давно видела?
Зося поставила сумку на пол:
— Нет, не очень. А что?
— Повидать я его хотел. Потолковать есть кое о чем.
Зося покачала головой:
— Не знаю, захочет ли он с тобой говорить.
— А почему не захочет? — пожал я плечами. — С тобой же захотел говорить.
Она помолчала немного, потом сказала медленно:
— Леша, дурачок, ты мужчина, и этого не понимаешь. Не надо тебе с ним встречаться.
— Так объясни мне, раз я не понимаю, — ухмыльнулся я. — Он ведь тебя, а не меня любил, и все же говорить с тобой стал. Чего же ему со мной не поговорить?
Зося сосредоточенно смотрела в пол, и я видел, что она хочет мне что-то сказать, да с духом собраться никак не может.
— Потому и стал со мной говорить, что любил он меня. Когда человек любит, он очень многое может понять и простить…
— Авось и меня простил. Хотя и вины-то я за собой не чувствую: он тебя что, на рынке купил? Сначала он любил, а потом я пришел и его любовь перелюбил.
Зося подняла на меня глаза, долгим взглядом посмотрела на меня и тихо сказала:
— Не надо так, Леша, говорить. Вы с ним очень разные…
— Зося, ласточка моя, не надо ненужные слюни растягивать. И не надо делать из Бакумы влюбленного принца. Бакума — вор, такой же, как я, злой, спокойный блатняга. Понимаешь, он вор, настоящий вор в законе, и ушел за мной он из кодла только потому, что понимал — со мной ему работать и наваристей, и спокойней…
Зося снова взяла сумку, выпрямилась:
— Может быть. Не знаю, может быть, ты и прав. Только он больше не вор…
Я опешил:
— Как не вор? А кто, святой?
— Нет, не святой. Он шофер. В такси работает.
— Что? Бакума — шофером?
— Да, шофером. Он мне паспорт показывал.
— Я тебе хоть три паспорта могу показать. И все на разные фамилии.
— Нет, — покачала Зося головой. — У него был один паспорт и на одну фамилию. Настоящий.
— А почему ты знаешь, что настоящий?
— Я его руки видела. У него руки шоферские стали, не такие, как раньше.
— Н-да, — пробормотал я. — Дела пошли дальше некуда…
Зося отправилась в магазин, а я стал бороться за справедливость.
Бакуму я разыскал немыслимо легко. Оказывается, если человеку не надо прятаться от уголовки, достаточно подойти к будке справочного бюро, заплатить двадцать копеек, и, если тебе известны фамилии, имя-отчество и возраст, подадут тебе его, как на блюдечке. Садишься в такси, платишь всего рубль семьдесят шесть, и на восьмом этаже беленького, воняющего свежей покраской дома в Вешняках-Владычине нажимаешь черную скользкую пуговицу звонка. И открывает тебе дверь давний подельщик, бывший верный кореш, бывший классный домушник, бывший вор в законе, железный блатарь Сенька Бакума.
Он открыл дверь, посмотрел на меня своими тяжелыми оловянными глазами, не моргнул, не зажмурился, не удивился, не обрадовался. И, кажется, не разозлился. Ну и слава Богу.
— Чего надо? — вежливо и спокойно спросил он, будто присели мы с ним вчера вечерком в картишки, и не пошла его игра, перезвенели его монетки в мой карман, а я вот, и не отоспавшись еще, уже снова приперся.
— Эх, прокачу! — сказал я. — Так, что ли, у вас теперь здоровкаются?
— Гоношишь все… — усмехнулся Бакума и стал притворять дверь.
Но я уже вставил ногу в щель:
— Не гоношусь. Да и ты не спеши.
— Прими ногу-то. Прижму сейчас. Захромаешь.
— Прижми, родной. Это ведь всегда у блатных закон был — у кореша на хазе в капкан залетать. Чтобы мусорам меня ловчее было надыбать.