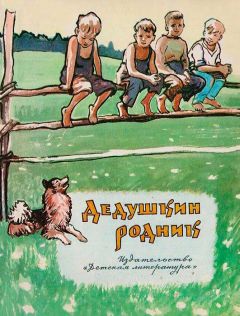Аркадий Вайнер - Гонки по вертикали
— А куда вам в Марьиной роще? — спросил таксист.
— Третий проезд, к товарному двору Рижского вокзала.
Машина, с треском и сипением набирая скорость, помчалась по Краснопролетарской.
Когда-то было здесь вольготно — в каждом втором доме притон, малина, хаза. Если у вора случалась беда, топал он в Марьину рощу. Здесь находил и кров, и жратву, и нужной копейкой разживался. Трущобы тут стояли кошмарные. Но покончили со всем этим навсегда. Воров большей частью переловили, барыг — скупщиков краденого — и девиц наилегчайшего поведения перековали и заставили трудиться, а трущобы снесли. Понастроили больших домов, бульвары проложили, прямо тебе Париж. Только около самой железной дороги осталось несколько хибар-развалюх, дожидавшихся очереди на снос. В третьем домике от полотна живет Шаман. Если, конечно, домик тот еще стоит, а то, может быть, Шаман уже в собственной трехкомнатной квартире панует. Смешно, ей-Богу! Шаман сколько жил, столько советской власти пакостил, а вот теперь не сегодня завтра квартиру дадут. А может быть, уже дали — давно я у него не был.
Домик Шамана стоял на месте. Я расплатился с таксистом, подождал, пока он развернется на пустыре и уедет, потом постучал во второе окно от угла. Окно было темное, никто долго не откликался. Я постучал сильнее. За стеклом, тускло отсвечивавшим в холодном мерцании молодой синеватой луны, как из омута, всплыло одутловатое лицо утопленника.
— Кто там? — хрипло спросил утопленник.
— Свои.
— У нас все свои дома, — сказал утопленник, прижимая толстую небритую рожу к стеклу. — Кто «свои»?
— Батон.
— Ишь ты, смотри, пожаловал… — Утопленник снова нырнул в пучину.
Звякнула щеколда, заскрипела дверь, с грохотом покатилось ведро, хриплый голос матюгнулся:
— Иди, что ли, коль пришел. Не студи меня, и так грыпп замучил.
Я шагнул в сени, и удушливый теплый смрад плеснул в лицо струей из компрессора. У Шамана воняло, как в тюрьме. И еще псиной, кошачьей мочой, прокисшей мокрой шерстью. Ударился о кадушку, снова загремело под ногами ведро, глухо брякнуло на стене корыто. Шаман щелкнул выключателем, стало чуть светлев, но только чуть-чуть, потому что пятнадцатисвечовая лампочка была прикрыта прогоревшим, загаженным мухами бумажным абажурчиком. Грязь, беспорядок, вонь.
Я присел на колченогий стул, Шаман стоял передо мной в синих трикотажных кальсонах, накинув на плечи рваный тулуп.
— Один живешь по-прежнему? — спросил я.
— Один.
В углу, где темнота делала предметы неразличимыми, кто-то завозился и хрипло зевнул.
— А это кто?
— Пес мой, Захар.
— Слушай, Шаман, ты же богатый. На что тебе деньги, коли ты в таком убожестве проживаешь?
— А ты кто такой, чтобы мое богатство считать? Я тебя в душеприказчики не приглашал, — от одного упоминания о деньгах Шаман рассердился, и сразу стало почти ничего не понятно из того, что он говорит. У него очень много щек, губ, языка, и когда он сердится, все это мясное рагу подается собеседнику, в разжеванном виде.
— Да просто я прикинул, сколько всего я перетаскал к тебе и сколько у тебя должно было остаться…
— Что было, то прошло, а что осталось, то мое, — буркнул Шаман. — Ты зачем ко мне пришел?
— Да вот хотел с тобой посудачить, а разговор у нас что-то не завязывается.
— Разговор не узел на мешке, чего его завязывать. Ты говори, зачем пришел, и иди себе. Я тебе не компания — гусь свинье не товарищ.
— Ишь, как ты разговорился-то. Только я не гусь, а орел. А ты и есть самая распоследняя собачья свинья, если ты старого товарища так встречаешь.
— Были мы товарищи. И еще был я барыга сдатный, а ты вор везучий. На том и товариществовали. А теперя я веду жизнь тихую, законом дозволенную, не нужно мне от тебя заработков.
— Шаман, никак и ты завязал? Что это на всех вас напало, как китайский грипп? Слушай, может быть, ты членом профсоюза стал?
— А что? А что? И стал! И бюллетень мне положен, и отпуск — все как у людей, — сердито забубнил Шаман.
— А со старых заработков не просят уплатить взносы?
— Кто же о них знает? — искренне ответил Шаман. — А делать больше шахер-махер нет резона. И накопленным попользоваться не успеешь — вмиг загремишь какую-нибудь гидростанцию строить.
— То-то я вижу, как ты пользуешь накопленное! Прямо прожигаешь жизнь. А с бабами как устраиваешься?
— Ни к чему мне это. Пора о душе подумать.
— Ну ты даешь… А работой доволен?
— Ничего работа, не соскучишься.
— Заработок приличный?
— Хватает.
— А где служишь-то?
— В лечебнице ветеринарной. Ты ведь знаешь, я животных люблю.
— Санитаром, что ли?
— Навроде этого, на машине санитарной. По дворам, по улицам отлавливаем бродячих кошек и собак.
— А потом что?
— Если здоровые — в институты их для опытов передают, а больных усыпляем. Укольчик кольнули — пшик, и готово!
Я как-то по-новому посмотрел на него — мордастая, опухшая орясина в синих кальсонах. Душегуб. Его по-другому и назвать нельзя было — душегуб, и только.
— Ты чего так смотришь на меня? — спросил Шаман со злобой, с вызовом спросил.
— Никак я на тебя не смотрю, смотреть на тебя противно.
— Ага, противно! — забарабошил Шаман. — А я вот с радостью свою работу сполняю, хотя мне собак и жалко маленько.
— А кошек?
— А кошек когда ловлю, как будто с вами сквитываюсь…
— С кем это — с нами?
— С блатными, с вами, проклятущими, мокрушечниками, ширмачами, домушниками — гадами блатными, что себя «в законе» считают…
— А чем же это мы тебе насолили? Ты ведь, как пиявка, от нас и жил всегда!
— А страху от вас сколько я претерпел? И милиции всегда боялся, а вас еще пуще. То-то вы всегда деньги мои считали, не раз, наверное, на меня зарились, по глотке «пиской» полоснуть и в подвале у меня пошустрить. Спасибо, Захарушка рядом… А теперя конец — ничего вы у меня не найдете, и помру — копейки вам не перепадет. Надежно себя я обеспечил, надежно, не боись…
— Дурак ты, Шаман, и псих к тому же. Только кошки здесь при чем?
— Как же ни при чем? Вот собака — она во всем человек и кошку смертно ненавидит, потому что кошка — это как есть вылитый блатной, как есть вор-«законник»! Нрав у этой животной — точный копий с уголовника. И кошек я ловить научился, как МУР вас всех, проклятых, ловит.
На мгновение мне стало страшно, потому что показалось, что он совсем с катушек сорвался. И все-таки я его спросил:
— Чем же это кошка на блатного похожа?
— А всем. Повадки те же, и бессовестность, и нахальство, и ни памяти, ни благодарности, а только форс да жадность глупая!
Меня это заинтересовало, я сказал ему:
— А ты поточнее, с подробностями расскажи, потому что я душегубством не занимаюсь, как ты, откуда мне про кошачьи ухватки знать.
— Так ты на себя вглядись и как в зеркале углядишь кошачий лик!
— Чего же я там узрю? Глаза у меня черные, а не зеленые, волос седой, усов не ношу.
— Душа! Душа у тебя, как у кота — черная.
Теперь я уже не сомневался, что Шаман сошел с ума.
А он продолжал:
— Вот гляди, кот всегда, понимаешь, всегда живет один. Сам живет, как блатной, и кошка ему всегда только на раз нужна — как вам. Не бывает у котов товарищей. Собаки от силы своей промеж себя дерутся, как люди в бокс, а коты только от жадности и злобы, потому что у каждой кошки есть свой участок земли, где она себя хозяином почитает. И это у них, как у вас. Вы ведь себе местечко отхватите и держите за него железно мазу, чужой не залетай. Так я говорю?
— Так, — кивнул я.
Шаман всерьез разволновался, он барабошил, шепелявил, глотал слова, жевал и выплевывал целые пригоршни звуков.
— А как появится урка понахальней да посильнее, так у вас пошел в ход кошачий закон — толковище за место на бану. Пришел такой кот на помойку, где один уже хозяйнует, и начинают они орать дико, будто кипятком их шпарят. А орут они от трусости своей, хотят визгом пугануть друг друга и драться боятся. Хвосты к земле жмут, кончики дрожат, как головы змеиные елозят. И как видят, что не разойтись, так один, что понахальнее, когтями второму по носу да по глазам, как вы своими «писками»! И каждый норовит сзади заскочить, затылок зубами уцепить, только бы не харей в харю! Только сзади, сзади, этак трусам и подлецам завсегда удобнее!
— Почему же трусам? — спросил я. — А ты не видел никогда, как котенок здорового пса шугает?
— Конечно, видел! — счастливо осклабился Шаман. — Потому что маленький кот, он уже вроде приблатненный хулиган с ножом в кармане, та его пес али человек тихий завсегда боится и завсегда ему уступит, потому как у того за душой, кроме глупой отчаянности, нахальства, на его ножик опертого, ничего нет, и обычный человек его опасается, смерть принять от глупой злобы не хочет…