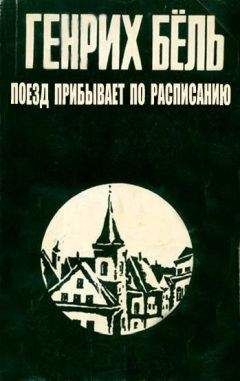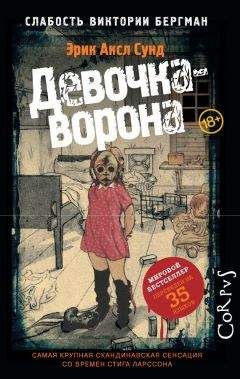Бумажные души - Сунд Эрик
Да, его сейчас слушают, но какая разница. За зеркальной стеной сидят люди, которых он едва знает. По видеосвязи на него смотрят двое незнакомых ему людей. Плюс Лассе, которому и так все про него известно. Лассе знает даже, почему он взял фамилию Мартинсон и относительно нейтральное имя Луве – Love.
Луве взял в руки снимок из серии “Маршрут товарного поезда”: изображение железнодорожных путей на станции Лудвика, где поезд простоял больше часа, прежде чем его направили в Стокгольм.
– Я много раз бывал здесь, – сказал Луве. – У родителей был участок в нескольких милях севернее Лудвики. Станция почти не изменилась.
Воспоминания о детстве могли не только причинять боль. Как хорошо было сбежать из дому, добраться до самой Лудвики или Бурлэнге…
– Однажды я автостопом доехал до Лудвики и сел на поезд до Стокгольма… Отец чуть не лопнул от злости.
Затем Луве снова взял в руки портрет королевской четы.
– Когда я был в твоем возрасте, я купил открытку с портретом короля и королевы Сильвии. Примерно такую же, как эта. Написал пару слов и отправил открытку родителям.
Открытку он отправил с Центрального вокзала Стокгольма. Луве тогда ощутил невероятную свободу. Он как будто выздоровел после долгой болезни.
“Вы для меня умерли”, – написал он.
– Мне казалось, что мама – она как Сильвия, – продолжал Луве. – Я вбил себе в голову, что его величество – садист: ходили слухи, что он, когда ему скучно, бросает в Сильвию спички и щелкает ее резинкой. Примерно так же обстояло с моими родителями. Мама молча, с застывшей улыбкой сносила отцовские выходки и предпочитала отворачиваться, когда отец издевался надо мной.
Луве проглотил комок в горле, надеясь, что зашел не слишком далеко, однако Каспар теперь смотрел на него с явным интересом.
– Я могу тебе кое-что рассказать, – продолжал Луве. – Обещаю: как только я замечу, что ты больше не хочешь слушать, я тут же прекращу.
“Интересно, – подумал Луве, – какая история скрывается за этим загадочным взглядом. Если Каспар недавно сбежал – значит, он сбежал в том же возрасте, когда сам Луве порвал со своей семьей. Когда он, подросток, понял наконец, что такое нормальное взросление, а что таковым не является. И из какой семьи надо уносить ноги”.
В детстве Луве казалось, что его семья ничем не отличается от остальных. В то же время он всегда знал, что с его семьей что-то не так. Одно противоречило другому, но такой уж была тогда его жизнь.
Луве подумал и начал:
– Жил-был один ребенок. Одна очень несчастливая девочка.
Глава 30
Белая меланхолия
Темно. Я присаживаюсь на корточки у курятника и смотрю. Жизнь отказывается покидать обезглавленную курицу. Вокруг меня кружатся в хороводе смерти снежинки и белые перья.
Я осторожно глажу курицу по спинке. Сердце еще бьется, маленькое тельце еще не начало остывать.
А на месте шеи – красно-черный обрубок с рваными краями.
В детстве я часто просила отца рассказать про Марию-Антуанетту, французскую королеву. Мне нравилось слушать отцовский голос, особенно когда папа рассказывал о вещах жутких, от которых перехватывало дыхание. Он говорил с таким чувством, что у меня щекотало в животе.
Во время Французской революции бедняки восстали против дворянства и королевской власти, потому что им надоели Предательство, Расточительство, Похоть и Бегство от Действительности. С гильотины, стоявшей на площади Парижа, самого большого и красивого города страны, скатились три тысячи голов.
Когда Пе заводил рассказ о прекрасной, но избалованной Марии-Антуанетте, сидевшей в темнице в ожидании смерти, я словно сама оказывалась в Париже тысяча семьсот девяносто третьего. У королевы отняли все, кроме кольца, которое она носила на пальце и которое напоминало ей о любви к шведу по имени Аксель фон Ферзен.
На перстне-печатке была гравировка: “Tutto a te mi guida” – “Все дороги ведут меня к тебе”.
В простой телеге Марию-Антуанетту повезли через весь Париж. Толпа выказывала королеве ненависть: люди вопили, плевались, бросали в королеву тухлую рыбу, самый отвратительный мусор и собачий кал. Ее возили по городу несколько часов. Но с ней было кольцо; королева проводила по надписи пальцем и самой кожей чувствовала слова “Все дороги ведут меня к тебе”.
Когда телега прибыла на площадь, там уже собралась толпа. Священник и палач возвели Марию-Антуанетту на помост.
“Пришло время мужаться, мадам”, – сказал священник.
“Мужество не покинет меня в миг, когда окончатся мои страдания”, – ответила королева.
“Посмотрим”, – сказал палач.
Ровно в двенадцать с четвертью Мария-Антуанетта под улюлюканье толпы положила голову под нож гильотины. Но кольцо оставалось у нее на пальце; мужество не покинуло королеву, ибо ее возлюбленный был с нею. На площади воцарилась тишина, лезвие упало и перерубило шею королевы с таким звуком, с каким раскалывают на колоде полено.
Дойдя до этого места, отец становился задумчив; дальнейшее повествование могло звучать с вариациями. Иногда он рассказывал, как отрубленная голова королевы скатилась с помоста к объятой ужасом толпе, и толпа расступилась перед ней, словно воды Красного моря перед Моисеем.
Но самой поразительной бывала такая концовка: Пе рассказывал, что, когда голова Марии-Антуанетты отделилась от туловища и палач показал ее толпе, произошло нечто удивительное.
Палач показал людям голову, причем из перерезанной шеи лилась кровь, и тут королева открыла глаза.
Она взглянула на толпу, и улюлюканье стихло.
Мария-Антуанетта моргнула раза три-четыре, и все видели, что голова еще живет, а тело неподвижно лежит у гильотины.
Мужество не покинуло Марию-Антуанетту. Многие потом утверждали, будто королева грустно улыбалась, глядя на тех, кто так ее ненавидел.
Говорят, человек, после того как его обезглавят, еще какое-то время способен видеть и слышать, чувствовать запахи и думать. Я спрашиваю себя, о чем думала, что пережила Мария-Антуанетта. Быть может, она узрела вечность? Три секунды прошли для нее как три сотни лет, а тридцать секунд – как три тысячи лет.
И все, что видела и слышала Мария-Антуанетта во время путешествия своей души, было исполнено любви.
Tutto a te mi guida. Все дороги ведут меня к тебе.
Вот о чем думаю я, Стина из Витваттнета, сидя возле курятника с обезглавленной курицей в руках и чувствуя, как остывает птичье тельце и как затихают смертные судороги. Наверное, думаю я, куриное сознание продолжает жить, и курица проживет еще три тысячи лет, а то и больше. Где-то вне своего земного существования она станет гулять под негаснущим солнцем, клевать зерно, червяков и гусениц, она снесет и высидит бессчетное множество яиц, она будет хлопать крыльями в буйных играх с петухом. Завтра, послезавтра, во все дни моей жизни и даже больше того курица пребудет в этом мире. Мысль о том, что жизнь и смерть сливаются воедино, утешает меня.
Я встаю. На губах у меня улыбка. Шум в курятнике стих. Не слышно ни звука. Интересно, куда все подевались.
Я открываю калитку и иду по птичьему двору. Под ногами у меня хрустят снег, лед, мелкие камешки и ракушки из Скагеррака. Куры едят их, чтобы переваривать пищу. Такие голодные – а зубов нет, жевать нечем. Бедные, беспомощные.
Я обтопываю снег с башмаков и поднимаю засов. Дверь, как всегда, подается сама собой, потому что курятник выстроен плохо. Дверь глухо ударяется о стену, я спускаю с потолка фонарь, зажигаю его.
Тут откуда-то из темноты раздается выстрел. Я цепенею, по телу разливается холод.
Эхо выстрела прокатывается между скалами далеко за мной, уходит наверх.
В курятнике тишина, но в голове у меня пронзительные крики и кудахтанье. Я как будто вижу, как разоряют курятник.
Вот курица без головы, голова без курицы, вот курица, у которой из растерзанной шеи торчит позвоночник, и на нем повисла голова. Везде куры, куры – обезглавленные, они замерли на земле или судорожно подергиваются. Всюду кровь, перья, раскиданная солома, корм, ракушки и стекла из разбитого окна.