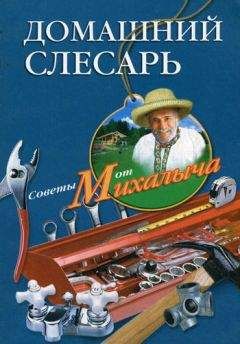Николай Псурцев - Без злого умысла
И вдруг он почувствовал тепло на своей груди и мгновенно осознал, что спит и что ему снится и что, когда он проснется, весь этот ужас исчезнет, он сделал слабую попытку проснуться. Но сон крепко держал его в своих тисках. В странном состоянии он находился — спал и в то же время понимал, что пришла жена, что не решилась будить его, что легла рядом и положила ему на грудь руку. А он лежал не шелохнувшись, и боялся убрать с себя ее руку, а убрать хотелось. Голова тяжелела, и он снова проваливался в холодную, жуткую пустоту. Что же еще у него имеется? Лена… Здесь, вот она, рядом, милая, желанная, сейчас он обнимет ее, притянет к груди, он хочет поднять руки, но они непослушны, вялы, налиты свинцом, он никак не может справиться с ними. А Лена отступает от него, отдаляется и вдруг с ужасающей быстротой начинает становиться непомерно высокой. И вот уже она глядит на него сверху вниз, холодно, не моргая. И он чувствует себя маленьким, незащищенным, скомканным, как Гулливер в стране великанов. И ему хочется упасть перед ней, распластаться у ног и просить прощения, неизвестно за что, но умолять ее, упрашивать. А тело одеревенело, голова чужая, неподъемная, и он не в силах даже упасть. Он только жалобно смотрит ей в глаза, и все. Постепенно осознает, что Лена что-то говорит, до него долетает голос, он начинает разбирать слова, чеканные, отрывистые, звенящие:
— Я не хочу, не желаю прозябать в этой забытой богом дыре. Мне нужна интеллектуальная жизнь, интересные люди, театры. Мне красота вокруг нужна. Я же профессиональный музыкант, мне порыв необходим, вдохновение, публика, а здесь я превратилась в заурядную учительницу пения. Если ты такой слабак, что не можешь пробить себе дорогу, то оставайся, а я уезжаю, уезжаю…
Облик ее бледнеет, затуманивается, ломается, как в треснутом зеркале, какое-то мгновение еще видно ее отрешенное лицо, и затем она растворяется, исчезает в наплывающем полумраке.
Чернота поглотила комнату, света больше не было. Он был совершенно спокоен и даже улыбался. И тут густая чернота исчезла вмиг, горячий солнечный свет ударил в глаза, и Мохов очутился в своем кабинете. Ничего там не изменилось: столы, стулья, сейфы стояли на своих местах, со стены все так же строго смотрел Дзержинский, окно было распахнуто, и свежий утренний ветерок осторожно трогал шторы. Он жив? Ничего не произошло? Обман? Розыгрыш? Зачем? С какой целью? Стены кабинета стали вдруг расплываться, терять очертания, потом, пропали совсем, и оказалось, что Мохов вновь сидит в той же самой пустой, неуютной комнате, только теперь она светилась большим окном. Он встал со стула, подошел к окну, выглянул, увидел много спешащих по улицам людей, много зелени и солнца. День начинался с яркого безмятежного утра. Но ни утро, ни солнце, ни люди не радовали его. Ему все казалось угрюмым и серым. Ему уже не хотелось жить, незачем…
Проснулся разом, как от удара. Неторопливо оторвался от теплой постели, свесил ноги на мягкий, ласкающий ковер. Поморщился, с силой потер виски, но бесполезно — сон еще жил в нем, не исчез, не забылся, как обычно. Опять он видел темную холодную комнату, себя на стуле посередине, маленькое оконце, только чувство страха ушло, остался горький, тошнотворный осадок.
Мохов встал, хрустко потянулся, оглядел комнату. Жена ушла, на ее половине постели гордо пузырилась аккуратно взбитая подушка. Она очень любила такие вот взбитые, пухлые подушки, так в деревнях взбивают, чтобы украсить кровать. Откуда это у нее? Мохов шагнул к окну, распахнул створки, с шумом втянул в себя свежий, прохладный воздух, на мгновение залюбовался ласковым солнечным утром, а потом враз вдруг все перевернулось, и утро показалось мрачным и солнце холодным, неприветливым, враждебным, опять поплыли картинки сна. Наваждение, бред. Он спал всегда без снов, а если и снилось что-то, то по утрам напрочь исчезало из памяти. А этот сон он помнил до мельчайших подробностей. Самый отвратительный сон за всю его жизнь, и он помнил его. Прохладный душ, бивший по телу упругими, колкими струями, на некоторое время успокоил его, помог отогнать прочь назойливые воспоминания. Но в комнате вид открытого окна опять сбил настроение.
Выходит, что пустота его теперь ждет, там, впереди, в будущей жизни, если не прервется она, жизнь эта, если он сам не прервет ее. Он опять, как и вчера вечером, в один миг похолодел от такой мысли, нелепой, ненужной, чужой, не его мысли. Хотя, впрочем, может, и впрямь правду сон поведал, ту самую, которую он так тщательно скрывает от себя, оберегая душевный покой, комфорт? И совсем он один, и никому он не нужен, если и уважаем, то постольку, поскольку человек все же, не таракан, не букашка какая. И больше от него вреда людям, чем пользы, зла больше. И ничего достойного он в этой жизни не совершил, разве что несколько десятков отщепенцев за решетку пересажал, так это и без него сделают, найдутся те, кто это будет делать лучше. Так что и получается, что за бортом он, вне игры. И незачем суетиться, казниться, терзаться, приставил ствол к виску — и готово…
Мохов рывком захлопнул створки окна, ожесточенным ударом вогнал щеколду в паз, склонился над широким подоконником, потряс остервенело головой, сдерживая стон, хлопнул что есть силы по подоконнику ладонями, выпрямившись, отвернулся от яркого стеклянного прямоугольника — не мог он смотреть в окно, снова сон возвращался — и шагнул вон из комнаты. На кухне ухватил с плиты пузатый массивный чайник, поднес носик ко рту, чертыхнувшись, с грохотом отбросил его обратно — кипяток обжег губы. Глотая воздух, повернулся к кухонному столу, увидел посередине квадратный листок бумаги, раздраженно схватил его, прочел:
«Прости, что не разбудила. Не решилась говорить с тобой, лучше напишу. Когда прочтешь, тогда поговорим. Я все знаю. Я говорила со Светланой Григорьевной. Как ты и просил, я нашла доктора Хромова. Передала записку, цветы. Потом попросила, чтобы он разрешил мне посмотреть на нее. Он отказал. Я настаивала, упрашивала, грозила. Он стоял на своем. Нельзя, не положено. Она без сознания. Но мне надо было ее видеть. Я тогда еще не осознавала, почему мне так упорно хочется ее видеть. Может быть, твои слова так подействовали. Может быть, что-то давило из-под сознания, не знаю. Я опять стала требовать. Но Хромов был неумолим. Отчаявшись, я вышла из больницы. Лихорадочно соображала, что делать. Потом придумала. В регистратуре поликлиники работает мама моей ученицы Женечки Зотовой. Я пришла к ней, попросила белый халат, и опять в травматологию. Никто не обратил на меня внимания, Хромов по пути не попался. Номер палаты я знала. Сиделка кинулась навстречу как фурия. Но тут Светлана Григорьевна совершенно твердым голосом спросила, кто это там. Я оттолкнула сиделку и бросилась к ней.
Она рассказала мне все. Она просто не смогла сдержаться. Мы плакали, как две дуры. Сиделка тем временем сбегала за Хромовым, и он выставил меня за дверь чуть ли не за шиворот. Я не виню тебя, Паша, что ты ни о чем мне не говорил, нисколько не виню. Ты правильно делал, ты иначе не мог. Я понимаю, как тебе сейчас тяжело. Но постарайся представить, каково мне. Десять лет я считала его самым добрым, самым хорошим, самым прекрасным. Он ведь любил меня, любит и сейчас, я это чувствую. Но, наверное, только меня и только себя. И никого больше, всех остальных ненавидит. Почему так, не знаю. Я не хочу верить этому, понимаешь? Мне все время кажется, что произошла чудовищная ошибка, что это сон. Я даже позвонила ему. Не пугайся, ничего я недозволенного не сказала. Просто спросила, как он себя чувствует. Он стал говорить о Светлане Григорьевне, говорить слезливо, жалобно, но я ощущала, что притворяется он, лицемерит, играет, как плохой актер на провинциальной сцене. Мне очень плохо, Паша, очень-очень. Давай поможем друг другу. Ты же любишь меня, правда? И я люблю тебя. Мы поддержим друг друга. Мы же с тобой единое целое, правда? И что бы ни случилось, слышишь, что бы ни случилось, я с тобой.
Лена».Мохов обессиленно опустился на табурет, машинально убрал волосы со лба и вдруг засмеялся тихонько, затем затих, бережно держа квадратный листочек, перечитал записку еще раз.
Спасибо, Ленка, милая! За записку эту спасибо, за то, что ты есть, спасибо. И прости, если можешь, что несправедлив я вчера к тебе был, что думал неверно, плохо думал. И за женщину, которую ты не знаешь, прости. Я забуду о ней, честное слово, забуду, чего бы мне это ни стоило. С корнями из памяти выкорчую, и останешься ты у меня одна-единственная, навсегда. Навсегда. Мохов расслабленно откинулся к прохладной стене. Навсегда. Он все-таки еще думает о будущем, значит, не совсем похоронил себя. Так что ж теперь? А теперь дело до конца доводить надо. Раз уж начал сам, так давай расхлебывай, исправляй, что еще можно исправить, плати по полному счету. А если не исправишь, если не расплатишься, вот тогда и…
Он решил, и решение принесло облегчение. Впервые за эти дни голова была ясной и чистой, думалось легко, свободно. Он накинул пиджак, аккуратно, осторожно, как драгоценность какую, сложил записку, сунул ее в карман, щелкнул замками входной двери и вышел из квартиры.