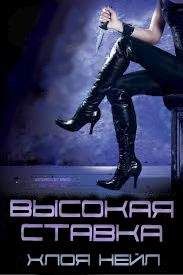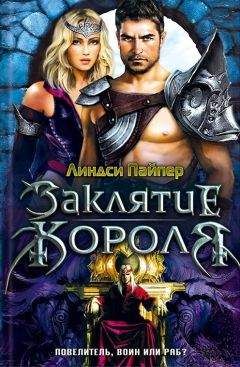Линдси Фэй - Злые боги Нью-Йорка
«Погребок Ника» был распланирован в обычной для таких заведений манере, и мне нравилась его безупречная типичность. Очень длинная стойка бара, достаточно широкая для оловянных тарелок с устрицами, десятков пивных стаканов и рюмок для виски и джина. Темно как в пещере, благо заведение наполовину под землей. Но по утрам вроде сегодняшнего солнце замечательно пробивалось внутрь, и мы даже не зажигали масляные лампы в желтых бумажных абажурах, которые оставляли весьма симпатичные следы копоти на штукатурке. Никакой мебели, только ряд кабинок с голыми скамьями вдоль стен; при желании их можно занавесить, но никто этим не пользовался. В «Погребке Ника» не секретничали. Здесь отчаянные молодые «быки» и «медведи»[5] перекрикивались через весь зал, отбыв двенадцатичасовой срок на Бирже, а я их слушал.
Я стоял, набирая галлон виски для незнакомого рыжего мальчугана. Берега Ист-Ривер кишели трясущимися нездешними созданиями, которые пытались избавиться от своей привычки к морской качке, а «Погребок Ника» располагался на Нью-стрит, совсем близко к воде. Парнишка ждал, наклонив голову и вцепившись ручонками в кедровую доску стойки. Он здорово напоминал воробья. Слишком рослый для восьми лет, слишком напуганный для десяти. Кожа да кости, глаза стеклянно выискивают бесплатные объедки.
– Это для твоих родителей?
Я вытер пальцы о передник и заткнул глиняный кувшин.
– Для папки, – пожал плечами мальчишка.
– Двадцать восемь центов.
Он вытянул из кармана ладошку с кучкой монет.
– Два шиллинга дают две восьмушки, так что я беру эту пару. Заходи еще. Меня зовут Тимоти Уайлд. Я наливаю по-честному и не разбавляю товар.
– Благодарствую, – сказал он, протягивая руку к кувшину.
Судя по темным пятнам патоки, которые я приметил под мышками его оборванной рубашки, он лазал в бочку за остатками. Так, значит, мой последний покупатель – сахарный вор. Интересно.
Хороший я буду бармен, если не смогу отличить портовую крысу из Слайго, занятую контрабандой патоки, от сына члена городского совета, пусть даже они приходят за одной и той же выпивкой. Бармену с острым глазом платят заметно больше, а я сберегал всю монету, которую удавалось прибрать к рукам. Для кое-чего слишком значимого, чтобы называться просто важным.
– На твоем месте я бы сменил ремесло.
Черные и блестящие воробьиные глазки прищурились.
– Патока, – пояснил я. – Местные не любят, когда торгуют чужим товаром.
Локоть мальчишки заерзал и начал дергаться.
– Похоже, ты ходишь с ковшом и лазишь на рынке в бочки, когда хозяева рассчитываются с покупателем. Ладно, бросай это дело, лучше поговори с продавцами газет. Они тоже неплохо зарабатывают. К тому же продавцы патоки не ловят газетчиков и не бьют, когда запомнят их хитрые мордашки.
Мальчишка резко кивнул и убежал, прижимая крылом потеющий кувшин. Я почувствовал себя очень мудрым, и в придачу еще и дружелюбным.
– Без толку наставлять этих тварей, – заметил Хопстилл с другого конца стойки, потягивая свою утреннюю порцию джина. – Лучше бы он потонул в океане.
Хопстилл по рождению лондонец и не слишком уважает республиканцев. Лицо у него лошадиное и унылое, щеки желтоватые. Это от серы для фейерверков. Он занимается всякими эффектами, сидит себе на чердаке и делает красивые взрывы на спектаклях в «Ниблос Гарден»[6]. На детей Хопстиллу плевать. А мне они симпатичны, нравится мне их искренность. На ирландцев Хопстиллу тоже плевать. Правда, такое отношение – не редкость. На мой вкус, нечестно обвинять ирландцев за то, что они охотно соглашаются на самую убогую и грязную работу, если иной им не предлагают. Но справедливость не занимает высоких мест в перечне приоритетов нашего города. Да и потом, убогую и грязную работу в наши дни найти непросто, по большей части она уже расхватана их же сородичами.
– Ты читал «Геральд», – сказал я, стараясь не злиться. – Сорок тысяч эмигрантов с января, и ты хочешь, чтобы все они стали карманниками? Здравый смысл подсказывает дать им пару советов. Я сам предпочту работать, а не воровать, но скорее начну воровать, чем голодать.
– Дурацкое занятие, – глумился Хопстилл, приминая ладонью пучки серой соломы, которые у него сходили за волосы. – Ты читал «Геральд». Этот вонючий клочок земли на волоске от гражданской войны. А сейчас в Лондоне говорят, что их картошка начала гнить. Ты это слышал? Берет и гниет, как от чумы египетской. И ничего удивительного. Я уж точно не стану ручкаться с народом, который навлек на себя Гнев Божий.
Я моргнул. С другой стороны, меня часто поражают глубокомысленные высказывания посетителей о католиках, а единственные известные им живые примеры – разнообразные ирландцы. Посетителей, которые в ином отношении – да во всех отношениях – абсолютно разумны. «Первым делом священники насилуют молодых монашек, и тот священник, который хорошо справляется с делом, идет наверх, такая у них система – до первого изнасилования они даже рукоположения не получат. Знаешь, Тим, я думал, ты кумекаешь, папа же только за счет вырезанных младенцев и живет, это все знают. Я сказал, к дьяволу, даже не думай пускать ирландцев в свободную комнату; будут они там вызывать всяких демонов в своих ритуалах, что тут хорошего, когда в доме малютка Джем? И вообще папство – это растление христианства, и возглавляет его сам Антихрист, а его отпрыски задавят Второе пришествие, как жука». Я не трудился отвечать на эти бредни по двум причинам: идиоты держатся за свое мнение, как новообращенные, а от всей этой темы у меня начинают ныть плечи. В любом случае, я вряд ли могу кого-то переубедить. Американцы испытывают такие чувства к иностранцам со времен «Законов о чужаках и бунтах» 1798 года.
Хопстилл счел мое молчание за согласие. Он кивнул и отхлебнул джина.
– Стоит этим попрошайкам приплыть сюда, и они начинают тянуть все, что не прибито гвоздями. Без толку им говорить.
Само собой разумеется, они приплывут. Я часто прогуливаюсь вдоль доков, окаймляющих Саут-стрит всего в паре кварталов от моего пути домой из «Погребка Ника», и они гордятся судами, жирными, как мыши, в которых пассажиров больше, чем блох на собаке. Эмигранты приплывали все годы – даже во время Паники[7], когда я видел, как голодают люди. Сейчас снова появилась работа, нужно прокладывать железные дороги, строить склады. Но, жалеете вы эмигрантов или желаете им потонуть, все граждане сходятся в одном: этих эмигрантов чертовски много. Большинство из них ирландцы, а все они католики. И почти все соглашаются со следующей мыслью, которая приходит на ум: у нас нет ни средств, ни желания прокормить их. Если все пойдет еще хуже, отцам города придется открыть кошельки и наладить какой-то порядок встречи – какую-то систему, не позволяющую иностранцам скапливаться в прибрежных переулках, утаскивая крохи у карманников, пока они сами не научатся воровать кошельки. Неделю назад я проходил мимо судна, выблевывавшего семь или восемь десятков скелетов с Изумрудного острова; эти эмигранты остекленело смотрели на наш город, будто не верили в его существование.
– А как же благотворительность, а, Хопс? – заметил я.
– Благотворительность тут ни при чем, – нахмурился он и с глухим «пинг» поставил свою стопку на барную стойку. – Точнее, этот конкретный город не желает иметь ничего общего с благотворительностью, когда она есть пустая трата времени. Я скорее обучу нравственности свинью, чем ирландца. И я хочу еще тарелку устриц.
Я крикнул Джулиусу, чернокожему парнишке, который мыл и вскрывал раковины, еще десяток с перцем. Хопстилл – угроза хорошему настроению. Я уже совсем было собрался сказать ему об этом. Но тут бьющее из дверей копье света порвала темная тень, и в бар спустилась Мерси Андерхилл.
– Доброе утро, мистер Хопстилл, – нараспев произнесла она мягким голоском. – Мистер Уайлд.
Будь Мерси Андерхилл еще совершеннее, влюбиться в нее заняло бы день нелегкой работы. Но у нее хватало недостатков, чтобы это оказалась до смешного просто. Например, ямочка на подбородке, похожая на бороздку персика, и широко расставленные синие глаза, придающие ей при разговоре недоуменный вид. Однако в ее голове не было ничего недоуменного; еще одна черта, которую отдельные мужчины считали недостатком. Мерси – исключительная книжница, бледна, как гусиное перо, взращена на текстах и диспутах преподобным Томасом Андерхиллом, и мужчины, замечавшие ее красоту, тратили чертову уйму времени, уговаривая ее оторваться от последнего томика, изданного «Харпер Бразерс».
Правда, мы старались, как могли.
– Мне нужно две пинты… две? Да, наверное, их должно хватить. Новоанглийского рома, пожалуйста, мистер Уайлд, – попросила она. – О чем вы разговаривали?
У нее не было посуды, только открытая плетеная корзинка с мукой, травами и листками с обычно торопливо набросанными полузаконченными стихами, и я достал с полки рифленый стеклянный кувшин.