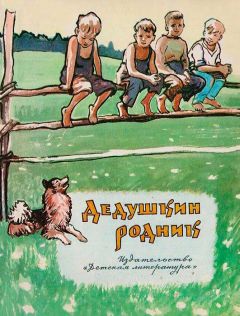Аркадий Вайнер - Гонки по вертикали
Потом я увидел через решетчатую дверь, как в дежурку в клубах пара с мороза ввалился химик Петр Иванович, замотанный шарфом, в женской кацавейке поверх синей гимнастерки. Я видел его бураковые, набрякшие уши и как он судорожно растирал занемевшие от холода руки, и все во мне переворачивалось от жалости к нему и ненависти на весь мир. И слушал его тихий, бубнящий голос, бившийся о деревянный барьер дежурки, как в стены бочки, и, наверное, именно тогда я в первый раз подумал, что все мы живем в бочке, громадной бочке, которая нам и земля, и небо, и весь наш размах и полет, и все наши удачи и унижения, все ограничено покатыми вонючими стенками невидимой глазом бочки, которая и сама-то не твердь, а так, кусок дерьма, мчащийся на волнах мироздания.
Химик бормотал: «Нервный мальчик… это эксцесс… педагоги должны в первую очередь отвечать…»
И тогда я с разбегу бросился на решетку двери, искровенив махом себе всю рожу, и заорал жутким, рвущимся из живота криком:
— Не верьте!.. А-а-а! Я сам за все отвечу!.. Вы мне все надоели!.. Я украл! Украл! Украл!..
Глава 3
Досуг инспектора Станислава Тихонова
— Крупная сволочь этот твой старый друг Дедушкин, — задушевно сказал Сашка.
— Да-а? — удивился я. — Не совсем так. Это определение не для него.
— А какое же для него? — насмешливо глянул на меня Сашка.
— Враг. Стал бы я с ним четыре часа разводить тары-бары, если бы он был просто сволочь. Но он нам враг и требует серьезного отношения.
— И что будем делать?
— Если Батон сообразит, что у нас нет потерпевшего, дело швах. Но я и сам не могу понять, почему до сих пор от него не поступило заявление.
Сашка уверенно сказал:
— Ничего страшного. Хозяин за эти четыре часа мог еще и не хватиться чемодана, а сейчас, пожалуй, уже спит. Утром обнаружит пропажу и заявит.
— Да-а? Ты так думаешь? — спросил я с надеждой. — Я тоже хочу так думать…
— И что?
Я лениво потянулся, подавил в скулах зевок, сказал:
— Пива хорошо бы попить. С воблой и соленым горохом. «Праздрой» любишь?
— Ничего. Со свежими раками лучше. Так что же с чемоданом?
— А я сам не знаю. Я ведь и не говорил, что у меня есть какие-то предположения. Просто я не верю в рассеянность этого потерпевшего.
Сашка сердито уставился на меня. Я встал, обнял его за плечи, засмеялся:
— Брось, старикан. Ничего мы сейчас с тобой не придумаем: это задачка по линии математического бреда. А трехмерные упражнения мы с тобой в уме делать не умеем. Так что все равно ничего не получится.
— Да перестань ты выкаблучиваться! — прорвало наконец Сашку. — Надо сесть и подумать, в каком направлении искать.
— Вот именно: в каком направлении искать, — обрадовался я. — Хорошо, что мы с тобой сидим сейчас на Киевском вокзале и точно знаем — поезда отсюда уходят только в юго-западном направлении СССР, где расположена четверть советских городов и населения. Поэтому остальные три четверти мы можем не проверять.
Сашка сделал протестующий жест, но я успел договорить:
— Это при условии, что ты прав и пассажир еще едет в поезде. А если он, наоборот, приехал в Москву?
— Тогда надо построить несколько рабочих версий и…
— Давай. Тем более что из всех известных мне видов строительства это самый дешевый и неутомительный.
Мне уже самому надоело балаганить, а Сашка не хотел заводиться, и игра потеряла интерес. Конечно, вся эта история не представлялась мне тогда ни сложной, ни интересной. Просто меня удивляло, что не появился пассажир, у которого Батон украл чемодан. А может быть, меня это и не удивляло, и придумал я все это потом, тем более что сильно удивляться или волноваться не было оснований — ведь прошло всего несколько часов после кражи. Но, во всяком случае, тогда я отнесся ко всей этой истории довольно спокойно, иначе я бы не стал дожидаться утра. Правда, Сашка Савельев потом доказывал мне, что при всем желании мы бы не могли разыскать потерпевшего в эту ночь, и даже если бы мы его нашли, то только все испортили бы. Честно говоря, я до сих пор не верю, будто самый верный путь к истине обязательно идет через ошибки.
Я уже привык к мысли, что процесс нашего возмужания — это вроде вступления в какое-то труднодоступное общество и, чтобы вступить в этот «Клуб опытных людей», надо долго и дорого платить — годами жизни, огромными разочарованиями, иногда болью и кровью. За это получаешь опыт, или, как говорили раньше, житейскую мудрость. Штука необходимая, избавляющая тебя, в частности, от унизительного сознания, что ты щенок. И как только избавился — тут тебе и крышка. Обязательно садишься в лужу, потому что в каких-то вещах мы до смерти остаемся щенками, и, когда уходит от тебя это понимание, ты теряешь готовность к встрече с неожиданностью, которая берет тебя за шиворот и начинает тыкать носом в твою замечательную житейскую мудрость: «Ты же ведь больше не щенок? Ты же член клуба взрослых, опытных людей? Давай, давай, реши-ка мои задачки!» Короче, я допустил ошибку. Или мы с Сашкой ее допустили. Но виноват в ней больше был я, потому что я был опытнее, потому что я был меньше щенок. И много, очень много дней и ночей я исправлял свою ошибку, чтобы, поняв и исправив ее, решить свою проблему в целом и этим заплатить за гордое сознание, что я уже не щенок.
Я сказал Сашке:
— Хорошо, давай подождем до завтра. Если пассажир завтра не объявится…
— Да куда он денется! — резонно возразил Сашка. — Кроме того, завтра можно будет связаться с линейными отделами милиции. Кого ты сейчас, вечером, да еще в субботу, найдешь там?
— Завтра, между прочим, тоже нерабочий день — воскресенье, — напомнил я.
— Но ведь это будет день. День, понимаешь? Дежурные там и в воскресенье есть наверняка! А сейчас ночь на дворе!
— Ладно, все равно мы с тобой за день сильно устали, ничего путного не придумаем. Оставь дежурному домашний телефон на случай, если новости будут, и пойдем спать.
На том и порешили.
Мы вышли из метро на Комсомольской. Площадь была залита пронзительным дымным светом ртутных фонарей, который, перемешиваясь с нервным мерцанием неоновых реклам, вспышками автомобильных огней, поднимался над городом, как извержение. Моросил холодный апрельский дождь, и мостовые тускло отсвечивали нефтяным блеском, а изо рта шел пар, который подолгу не хотел таять, и люди были похожи на рисунки в комиксах, когда разговор изображают такими исписанными клубочками пара, срывающимися с губ. И если бы мы с Сашкой записали слова на этих маленьких облачках, то все смогли бы прочитать, о чем мы с ним думаем. И хотя большинство людей в принципе не прочь узнать, о чем думают остальные, как раз на этой площади им меньше всего до этого дело. Эта площадь похожа на огромное сердце, которое мощно и ритмично выпускает и принимает через три вокзала бессчетное число пассажиров, заполняющих ее до предела. Я иногда с испугом думаю о том, как было бы страшно, если бы случилось что-то фантастическое, и все пассажиры уехали бы, и больше поезда не пришли бы к платформам, и вся эта суета утихла, исчезло веселое напряжение перед дорогой, опустели перроны, залы ожидания и переходы, и, хотя я понимаю, что это чушь, чепуха, остаток какого-то вздорного сна, я все равно пугаюсь, потому что пустой вокзал и заколоченный дом для меня всегда были символами смерти.
Из дверей метро слышался ровный утробный гул и толчками выходил теплый плотный воздух, пахнувший горячей резиной, и даже здесь был ощутим запах весны, который преследовал меня сегодня с утра и совсем исчез в прокуренном помещении милиции. Пахло землей, прошлогодней травой, тающим снегом, хвоей…
— Пошли ко мне? — предложил Сашка. — Поужинаем вместе, потреплемся, а захочешь — останешься ночевать.
Я покачал головой:
— Спасибо, не могу. У меня еще сегодня свидание. Вернее, визит в гости.
— Куда ты в одиннадцать часов поедешь? Знаю я твои визиты, — засмеялся Сашка. — Плюнь, завтра поедешь.
— Не могу. — упирался я, — Тем более что мне не ехать, а идти. Тут рядом, пять минут. Я точно обещал.
Я смотрел Сашке вслед, на его прямую, твердую спину в узеньком коротком пальто — крепкий, спортивный мальчишка — и испытывал чувство обиды и досады, как ребенок, дважды отказавшийся за столом от любимого блюда, а теперь блюдо уже унесли на кухню и нельзя сказать: «Я передумал, дайте мне тоже кусочек» — потому что предлагали-то от всего сердца, и никому не объяснишь, из-за чего находит на тебя застенчивое упрямство, заставляющее говорить и делать глупости. Хотя в глубине души я и сам понимал, что от того блюда, которого мне сейчас больше всего хотелось, которое мне так было нужно, не отрежешь кусочка на долю гостя.
А хотелось мне немного, всего капельку обычного обывательского покоя. Того самого, которого принято стыдиться, который презрительно называют «мещанским уютом», которого благополучные люди никогда не прощают житейским нескладехам. Того покоя, семейного счастья, что приходит вместе с жизненным становлением, незаметно сопутствует успехам, окружает удобной мебелью в своей квартире, предлагает вкусный ужин вместо докторской колбасы и еще позволяет иметь тапочки. Есть такие тапочки, мягкие, войлочные, цена четыре рубля, которые стоят под вешалкой и являются для меня символом жизненного спокойствия, благополучия и уверенности.