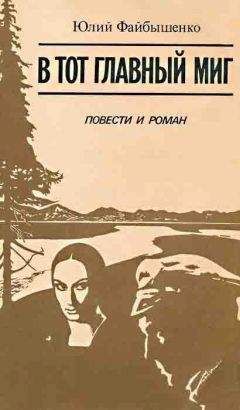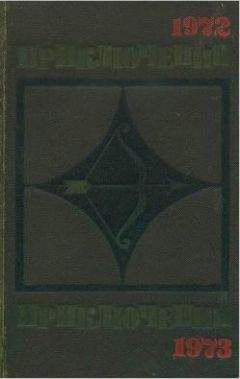Юлий Файбышенко - Розовый куст
– Тут… недалеко, – мучился Климов, оглядываясь назад, – машина ждет.
В этот миг на кухню бочком скользнул Потапыч, оттер Климова и, не говоря ни слова, взял девушку за локоть и повлек ее к двери. Клембовская прошла, взглянув на Климова с немой и бессмысленной покорностью.
Пока ехали, не обменялись друг с другом ни единым словом. В подотделе Климов наконец взял себя в руки. Жалость жалостью, а дело делом.
– Ваша фамилия, имя, отчество?
– Клембовская Виктория Дмитриевна, – пробормотала девушка. Взгляд у нее стал осмысленнее. – Вы их найдете?
Глаза ее сузились. В них появилась странная, почти сумасшедшая настойчивость, от которой Климову стало не по себе.
– Вы вот поможете, – сказал он, не выдерживая силы ее взгляда, – думаю, поймаем. – Воротничок был хоть выжми. Он пересилил себя. – Где вы работаете?
– Учусь, – она опустила ресницы, и что-то в лице ее сразу построжело, – в Москве на медицинском факультете.
– Расскажите, как вы обнаружили… – он все время подыскивал слова, – как вы…
Она подняла веки. Глаза ее опять ушли куда-то. На виске пульсировала жилка.
– Открыла дверь, – она задохнулась, секунду помолчала, но справилась с собой. – Открыла дверь… Никто не встречает… Вошла в папин кабинет. – Бдительный Потапыч подскочил со стаканом воды. Она пила, зубы лязгали о стекло.
– Отдохните пока, – сказал Климов, злясь на Селезнева за скоропалительность этого допроса. В конце концов, допросить можно было бы и через час.
В полном молчании они просидели минут пятнадцать. Входил и уходил Потапыч. Ветер из открытого окна подобрался к золотым волосам Клембовской и затрепал над узким лбом тонкие, светящиеся пряди. Сквозь окно доносились шумы двора. Переговаривались возчики, ржала лошадь, фыркал мотор «фиата». Протарахтели колеса, процокали копыта. Раздался голос Селезнева, и через минуту он уже входил в подотдел, стягивая на ходу кепку с круглой головы. Он сдвинул Климова со стула, сел на его место, прочитал протокол и взглянул на Клембов-скую.
– Замок открывали, легко поддался?
– Как всегда, – ответила она.
– Из вещей что унесено?
– Не знаю, – она посмотрела на него с досадой, – кажется, ковры, верхняя одежда… Не интересовалась…
– Ясно, – с полуусмешкой на непонятно ожесточившемся лице пробормотал Селезнев, – не до низменных материй, так сказать.
Клембовская вскинула ресницы. Зрачки ее сфокусировались на переносице Селезнева. Все лицо ее враждебно напряглось.
– Золотишко-то водилось у папаши? – небрежно
оглядывал ее Селезнев.
– Золотишко? – переспросила она. Неотрывные ее глаза что-то выискивали на селезневском лице. Климову показалось, что на минуту сквозь враждебность на лицах обоих проступило нечто вроде взаимопонимания, Клембовская зло улыбнулась: – Золотишко отец давно сдал…
– Уважал наши законы, – хмыкнул Селезнев, – золотишко сдал, а все нэпманы города его золотыми коронками сверкают!
Климов изумленно смотрел на Селезнева: что он делает? О чем он спрашивает?
Хлопнула дверь, вошел начальник управления Клейн.
– Здравствуйте, товаричи!
– Здравствуйте, – Селезнев кивнул на Клембовскую, – вот по делу об убийстве на Белоусовском, два.
– Клембовская Виктория Дмитриевна? – спросил Клейн, присаживаясь сбоку на стул. – Соболезную, мадемуазель.
Клембовская перевела на него тяжелый взгляд, установила что-то для себя и опять всмотрелась в Селезнева. Клейн в секунду оценил ситуацию.
– Устроим перерив, – сказал он, четко, как всегда, выговаривая русские слова, – вы можете отдохнуть, мадемуазель, потом продольжим. – Ряд русских звуков не давался Клейну.
– Вы в самом деле заинтересованы узнать что-нибудь кроме того, не утаил ли отец от государства золото? – Клембовская встала. Голос у нее был напряжен, как струна.
– Гражданка, – тоже встал Клейн, – мы же хотим помочь вам!
– Я обойдусь! – уже от двери отрезала она. – Как-нибудь выясню все и без рабоче-крестьянского розыска. – Дверь за ней хлопнула.
– Бур-жуйская дочка! – сквозь зубы просипел Селезнев. – В восемнадцатом мы таких на принудработы гоняли, а теперь я что, нанялся им прислуживать?
– Товарич Селезнев, – жестко взглянул на него Клейн, – ви дольжпи научиться отбрасивать все личное при допросах. Объявляю вам виговор. Он будет в приказе.
– Объявляйте, – набычился Селезнев, – но я им не дешевка, чтобы перед нэпманами на задних лапках прыгать!
– У нее семью перебили! – почти крикнул возмущенный Климов. – А ты…
– Жалостливые стали! – Селезнев с презрением оглядел Климова. – Погодите, дожалеетесь. Они вам революцию живо в отхожее место переделают!
– Внимание, – перебил Клейн, – к этой теме есче вернемся. Сейчас о деле: убийство на Белоусовском, два, редкое по жестокости. Таких преступников ми упустить не имеем права. Пока у нас нет следов. Однако план есть. – Он оглядел всех прищуренным взглядом. – Ми давно готовили чистку гнилых углов. Теперь она назрела. Привлечем части ЧОНа и пехотни курси. Бьем сразу по сами опасни место – по Горни. Затем переключаемся на беженски бараки у Воронежски тракт. После них очередь притонов на Рубцовской.
Климов и остальные слушали его молча. Клейн умел мыслить широко и точно. Это был высокий черноволосый австриец, с черной щеточкой усов под изящным носом, с умными серыми глазами на худом интеллигентном лице,
В пятнадцатом под Перемышлем во время отражения кавалерийской атаки лейтенант Клейн был взят в плен русскими драгунами и оказался в туркестанских лагерях для военнопленных. Революционная пропаганда прорывалась сквозь проволочные загрождения и тесовые стены бараков. В начале восемнадцатого года вооруженные русские рабочие распахнули ворота лагерей для военнопленных. И многие тогда связали свою судьбу с русской революцией.
Тяжелое, опасное настало время. Почти два года шагал теперь уже коммунист Клейн по выжженной, встречавшей пулей и казачьим гиком земле фронтов. Дрался под Иркутском и Омском, под Царицыном и Лозовой. На русскую землю падала кровь дважды раненного в боях за революцию австрийского студента и бывшего лейтенанта.
В девятнадцатом его вызвали в отдел по работе с военнопленными.
– Принято решение отправить на родину часть наших товарищей, – сказал ему пожилой человек в кепи австрийского солдата. – Согласны ли вы вернуться, чтобы и там продолжать борьбу?
Клейн кивнул. Виски его вдруг обдало жаром волнения.
– Я согласен, – сказал он.
В конце девятнадцатого он вернулся на родину. Его высокую тонкую фигуру видели на венских заводах, глухой его голос слышали на митингах в Линце, Зальцбурге и Вене. Потом перешел границу соседей Венгрии. Через год за ним захлопнулись ворота будапештской тюрьмы.
В двадцать первом товарищи выручили Клейна. Он бежал.
А через несколько недель страна, ставшая его второй родиной, вновь приняла его к себе. С тех пор прошло два года, и вот теперь он снова пошел туда, где было жарко, – бороться с бандитами. Он руководил губернским розыском. Слово его ценилось дорого. Розыск при нем повел широкое наступление на местную уголовную братию. Но бороться было трудно. Город лежал на пути с юга к Москве. Залетные бандюги появились здесь нежданно, как чума в средние века. После них оставались трупы и чудовищные слухи. Но Клейн осторожно и уверенно вел свою игру. Он походил на шахматиста, когда, склонив голову, как это было сейчас, излагал свои тщательно продуманные планы.
– Самое важное – информация, – заканчивал свое сообщение начальник, – кто-то знает про убийство. Знает и его участников. На Горни знают многие. Раскидиваем бредень. Загребем один голавль – неплохо, выудим карась – хорошо. – Он замолчал, потом оглядел всех повеселевшими глазами и чуть улыбнулся.
– А поведет на операцию вас Степан Спиридонович. Наконец и он с нами. Это есть мой сюрпиз… Сбор в одиннадцать. Все.
В одиннадцать на тускло освещенном дворе губрозыска собралось полтора десятка сотрудников. Вечер обдавал холодным ветром. Большинство было в шинелях. От конюшни до ворот в линию стояли пять фаэтонов. У забора переговаривались возчики. Парни из бригады по особо тяжким поджидали своего начальника и глухо поминали Горны.
Когда-то, несколько веков тому назад, была там Гончарная слобода. Еще и сейчас виднелись на этих местах развалины каменных горнов, на которых обжигали когда-то глину. От них и получила слободка свое название. Теперь это была вольная слободка Горны – приют налетчиков и воров.
Вечерами выползали оттуда волчьи стаи. К рассвету сходились с добычей, делили ее у костров, пили, расшибали тьму гармонями и гитарой. По утрам по канавам и скверам города подбирали трупы обобранных до нитки людей. В прошлом году впервые дошли у властей руки до Горнов. Чоновцы и курсанты, окружив их со всех сторон, с боем ворвались в поселок. После стрельбы и повальных обысков увели с собой несколько десятков захваченных бандитов, унесли пять тел убитых и восемь раненых товарищей.