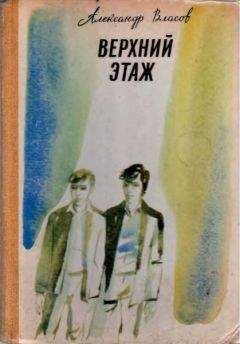Александр Лавров - Шантаж
Знаменский допил чай, встряхнулся и взялся за городской аппарат:
– Это, видимо, Настя? С вами говорит следователь Знаменский. Там у вас наши сотрудники, будьте добры кого-нибудь из них… Да, Знаменский. Ну что вы там?.. Правильно. А как ведет себя Антонина Валериановна? Следовало ожидать… Да, как смогу, приеду.
Миркин сидел совершенно неподвижно, но лицо его Пал Палыч «читал» без труда:
– Хочется спросить, почему там наши люди?
– Наверное, засада, – равнодушно буркнул Миркин.
– Зачем?
– Н-ну, может, купца моего надеетесь подстеречь…
– Он вас навещал? – иронически изумился Пал Палыч. – А как же конспирация? Ох, Миркин, Миркин… Борис Семенович… – с сожалением покачал он головой и добавил уже раздельно и многозначительно:
– В гомеопатию я не верю! Ясно?
Миркин дрогнул:
– О чем вы?
– О Праховой.
– При чем тут она? Безобидная старушка…
– Вчера у безобидной старушки побывал тот самый шантажист. Они долго беседовали. Как вы думаете, если у нее сейчас сделать обыск, а?
Голосом Миркин владел хорошо:
– У Праховой? Обыск? Смешно, Пал Палыч…
– Мне – нет. Потому что несколько раньше у вашей старушки побывал еще кое-кто.
Он показал лестничную фотографию барабанщика. Миркин узнал дверь с двумя замками и цепочкой, узнал и посетителя.
– Чистодел… Что его вдруг понесло?!
– Вероятно, послали выяснить обстановку.
Знаменский поднялся, снял со шкафа расторгуевские снимки.
– И вот он же – в ночь после визита к Праховой.
Миркин вцепился руками в стол:
– Мама родная!.. Мама родная!.. Что это такое?!
– Положили под товарняк. Опознали по пенсионной книжке.
Между двух стекол было заключено крошево изодранных страничек, но по случайности (которыми судьба любит намекнуть на ограниченность нашего материалистического мышления) клочок фотографии с одним глазом остался нетронутым и отчетливо совпадал с собесовской карточкой.
Знаменский шагал по кабинету за его спиной.
– Не терплю читать мораль, Борис Семенович, но он на вашей совести.
– Нет! – вскрикнул Миркин и вскочил. – Нет, нет!
– На чьей же?
– Того, кто это сделал!
– Да откуда у него совесть? А вот вы, кабы не пеклись о мнении Столешникова, выдали бы Чистодела сразу. Получил бы срок – но не вышку же…
Миркин рывком отвернулся от стола.
– Если можно… пожалуйста. Пал Палыч… уберите это…
Знаменский убрал и молча налил ему чаю. Миркин поднял глаза – поблагодарить – и понял, что следователю его жалко. Подбородок предательски задрожал. Самому тоже стало жутко себя жалко.
– Сколько вам было, когда умерла мать, Борис Семенович?
– А?.. Пятнадцать.
– С тех пор Прахова кормила-поила, обучала уму-разуму… И вам не хотелось вырваться из-под опеки?.. Пятнадцать лет, конечно, не возраст, но потом, позже? Ведь вы не питали к ней теплых чувств.
– Ну почему… – вяло возразил Миркин.
– Да иначе и быть не могло. Когда вы обмолвились, что не сильно любили мать, я сначала не понял. Потом кое-что порассказали. Кое-что я довообразил. И, знаете, не позавидовал.
Миркин сжимал опустевший стакан. Сочувственно и мягко его вели к западне. Под ногами было скользко. За что бы уцепиться, удержаться?
– Простите, можно еще? – потянулся он к термосу.
Совсем не те варианты продумывал он на коечке, не к тому следователю шел на допрос. И уж, конечно, не чаял этого ужаса на рельсах.
– Заварено с мятой?
– Угу. Так вот я представил себе парнишку, у которого мать живет в прислугах за харчи и обноски, – продолжил Знаменский, не давая разговору отклониться от темы. – Представил вас в школе, во дворе… Самолюбивый подросток. И эта зависимость, унижение… Вышвырнутые из квартиры котята, щенки…
Миркин молчал.
– Нет? Значит, вы благодарны Праховой за то, как она устроила вашу судьбу?
– Оставим это, честное слово! Что вам моя судьба?
Невыносимое у него лицо – видишь, как ранят твои слова, как бередят давние болячки. Несчастный, в общем-то, человек.
– Ваша судьба схлестнулась с другими судьбами. Я обязан вас понять. Кто передо мной? Крепкий делец с припрятанным где-нибудь капиталом? Или вечный мальчик на побегушках при какой-то дикой старухе?
– Не лезьте вы мне в душу! – запсиховал Миркин.
– Так откройтесь сами.
Миркин хотел что-то сказать, но остановился.
– Откройтесь, право, Борис Семенович. Зря вы считаете, что трудно. Вам ведь хочется выдать старуху! Верно? Пусть бы тоже узнала, почем фунт лиха…
«Молчишь. Ну, придется тебя оскорбить».
– Вижу, что хочется. Но что-то удерживает. Застарелая покорность? Или мелкий расчет? Дескать, я буду сидеть, а она посылочку пришлет: конфеток там, колбаски с барского плеча…
«Опять молчишь?»
Но молчал Миркин красноречиво, и Пал Палыч правильно сделал, что тоже держал паузу.
Внезапно Миркин взорвался почти на крике:
– Пропади она пропадом со своей колбаской! Пишите! Пишите, пока не передумал!..
* * *Такого радостного и веселого обыска никому из его участников не случалось проводить. При обилии всяческих шкафов, комодов, укромных местечек и закоулков объем трудов предстоял громадный. Да впереди еще коридор с неведомыми залежами, да какие-то стеллажи в передней. Но всем все было нипочем. Спала с души тяжесть, сил хватило бы хоть на сутки, хоть на двое.
Ширмы, делившие пространство и придававшие каждой части его разумный смысл, вынесли вон – и комната превратилась в беспорядочное сборище мебели, обнажились кучи мусора в углах, куда годами не добиралась Настя, прежнее великолепие исказилось нелепо и создало обыску карикатурный фон.
Прахова упорно крепилась, стараясь сохранить достоинство. Оперативники из группы Токарева развлечения ради подыгрывали ей, изъявляли почтительность, выслушивали «великосветские» тирады; а один все отвешивал поклоны, потешая окружающих, и Токареву пришлось отвести его в кухню и пригрозить выговором «за клоунаду в процессе проведения обыска».
Антонина Валериановна, сидя в любимом кресле, раскладывала сложный пасьянс. Периодически звонил будильник, и она принимала свои крупинки.
В положенное время Настя состряпала и подала ей ужин; «шпиков» она поначалу игнорировала. Однако нарастающее разорение родного гнезда побудило ее по-своему включиться в общую деятельность. Нависая над «отработанным» участком, она спрашивала грубо:
– Можно убирать?
И принималась укладывать вещи обратно. Но будь то кружевные шали, отрезы шелка или побитое молью тряпье – ничто не желало умещаться в прежнем объеме. Десятилетиями слеживались они, спрессовались временем, а сейчас распрямились, напитались воздухом и не лезли назад.
Настя отчаялась, уперла руки в бока и начала поносить вперемежку и хозяйское добро и разбойничающих в доме «ментиков».
– На-астя! – урезонивала Прахова, когда та слишком повышала голос.
В области брани лексикон у молчаливой Насти оказался неожиданно богат и сочен, уходил корнями в народную толщу прошлого века, и ему в подметки не годилась скудная, однообразная современная матерщина.
Знаменский хотел было угомонить ругательницу – ради Зиночки, но та шепотом воспротивилась:
– Не ханжествуй. Такое услышишь раз в жизни!
Действительно, хоть на магнитофон пиши «для внутреннего пользования».
Пал Палыч сел против Праховой с пистолетом, который ему вручил кто-то из токаревских парней.
– Бельгийский браунинг, Антонина Валериановна.
– Вы думаете, это настоящий? – невинно спросила она.
– Вполне. С оружием я как-нибудь знаком.
– Боже мой, как любопытно! Я всегда считала его зажигалкой, но мы с Настей не курим, и я хранила просто как память о моем третьем муже… Или о втором?.. Ах, я в таком состоянии от вашего нашествия… Даже пасьянс не удается!
– Зина, на минуту!
Та подошла танцующей походкой, непринужденно лавируя среди мебельных дебрей.
– Зинаида Яновна, наш эксперт, – представил Знаменский.
Прахова впилась в Кибрит неприязненным взглядом.
– Антонина Валериановна утверждает, что принимала браунинг за игрушку. Ты его осматривала?
– Да. В отличном состоянии, последний раз смазывали дней десять назад. И я знаю место на обойме, где наверняка сохранились отпечатки пальцев того, кто это делал.
– Вы рассказываете весьма интересно, дорогая, но…
– Спасибо, Зина, все.
Зиночка улыбнулась и скрылась за шкафом, где на створках два кавалера скрестили шпаги.
До сих пор Знаменский допрашивал Прахову урывками – отвлекало общее руководство обыском. Но теперь дело наладилось и можно было заняться Праховой более основательно.
– Не скажете ли, зачем к вам приходил этот человек? – показал он фотографию Чистодела.
– Хотел отдать долг Борису.
– А этот?
Прахова долго рассматривала шантажиста.
– Какая неудачная фотография, даже не разберешь лица.
– Полно, Антонина Валериановна, фотография достаточно разборчива.