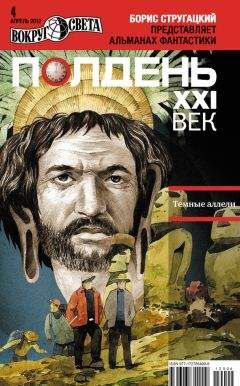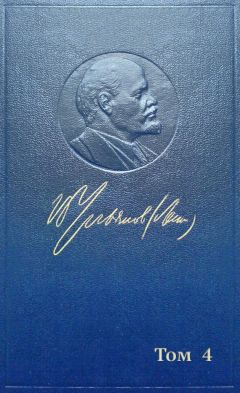Коллектмв авторов - Агент абвера.
— Надеюсь, вы согласитесь, господин капитан, — проникновенно продолжал Никулин, — что в лагере невольно начинаешь опускаться, теряешь способность трезво оценивать обстановку. И вот тут-то достаточно одного слова умного человека, который умеет видеть дальше тебя, чтобы окончательно определить свой путь. Ваше выступление открыло мне глаза, указало, куда идти и что делать. Может быть…
— Очень рад, что ты понял меня, — прервал Плетнев. — Я от души хотел помочь соотечественникам, но среди вас попадаются типы, которые мутят воду. Что нам до них! Пусть подыхают за колючей проволокой. Спасать не стану.
Николай Константинович почувствовал, как забилась в жилах кровь. “Задушить подлеца!” — пронеслось в голове. Но он сдержал себя. Этим делу не поможешь.
— Так что же ты хочешь? — спросил Плетнев.
— Хотел просить, чтобы вы, господин капитан, порекомендовали меня германскому командованию. Я оправдаю доверие. Еще в Большом рижском лагере Вишневский наказывал мне в случае чего обратиться к вам, так как вы всегда бескорыстно помогаете соотечественникам.
— Ты разве знаком с Вишневским?
— Так точно. Часть, в которой я служил, располагалась по соседству. Там мы и познакомились, подружились…
— М-да… Вишневский… — промычал Плетнев. Он хотел было рассказать Никулину о том, что Вишневского нашли с проломанным черепом на лагерной свалке, но потом спохватился и продолжал: — Вишневский хорошо зарекомендовал себя. То, что вы с ним друзья, меняет все дело. Садитесь, пожалуйста.
Николай Константинович сел. Он сидел прямо, готовый в любой момент вскочить, принять стойку “смирно”, и ел глазами начальство. Все это льстило Плетневу. Находясь на побегушках у немцев, он старался хоть тут строить из себя барина, большого начальника. И подобострастие пленного тешило его самолюбие.
Чувствуя нечто вроде симпатии к почтительному, скромному человеку, сидящему перед ним, Плетнев продолжал расспрашивать. Николая Константиновича о жизни, о причинах, побудивших его проситься на службу к немцам. Никулин понимал, что, несмотря на, благожелательный тон, Плетнев ведет разговор не из любезности, а проверяет, прощупывает его, и поэтому отвечал на вопросы, обдумывая каждое слово:
— Почему, говорите, захотел служить великой Германии? Долго рассказывать об этом. Такое решение я не вдруг принял. Думал об этом с самого начала войны. Вам, господин капитан, первому откроюсь.
— Я слушаю вас, продолжайте, пожалуйста, — с готовностью откликнулся Плетнев.
Никулин не спеша, как бы делясь сокровенным, говорил:
— Отец у меня до революции коммерсантом был, имел большой магазин. Все богатство у нас отобрали. Папашу в тридцатых годах выслали. Пришлось мне казанской сиротой прикинуться. Но в Красной Армии настороженно относились. Сами понимаете, прошлое забыть не могли. Мне скоро сорок стукнет, а я выше капитанских чинов так и не поднялся. Чего ж мне за большевиков держаться?
— Не любишь их, выходит? — поинтересовался Плетнев.
— Выходит, так, господин капитан.
— Вот и прекрасно, — одобрительно проговорил Плетнев, с интересом поглядывая на собеседника. Серьезный, видно, мужик попался. Немцы будут довольны.
— Ну что ж, господин Никулин, — поднялся со стула Плетнев, давая понять, что разговор окончен, — я запишу вас. И если только возраст не помешает, вы будете приняты на службу великой Германии.
Уходя от Плетнева, Николай Константинович вспоминал каждую свою фразу. Не вызвал ли он подозрения, не сказал ли чего лишнего? Проверки он не боялся. Был уверен, что фашисты не дойдут до подмосковного поселка Кусково, который он назвал своей родиной. А посылать специального агента за линию фронта для проверки его биографических данных немцы не станут. Слишком он мелкая фигура для этого. Таких Никулиных не так уж мало. Каждого не проверишь. Сунут в мясорубку — и будь здоров. Уцелеешь — твое счастье, а убьют — так тоже беда невелика. Немцы своими солдатами не дорожат, а уж русскими — и подавно.
В тот же день Николай Константинович разыскал Сыромятого и как бы невзначай разговорился с ним. “Дружески”, “задушевно” поделился мыслями о своей дальнейшей судьбе. Рассказал ему свою вымышленную биографию в том виде, как излагал ее Плетневу, нелестно отозвался о действиях “дерзких” военнопленных и попросил совета, как быть, если немцы не возьмут его на службу. Николай Константинович хорошо знал, что каждое сказанное им слово Сыромятый немедленно доложит своим хозяевам. Плетневу, во всяком случае, будет все известно. И не ошибся. Через некоторое время Плетнев уже получил подробное сообщение “конопатого” о Никулине. Характеристика была в высшей степени положительной.
Сыромятый все-таки пригодился.
После беседы с Плетневым прошло дней десять. Никто не вызывал Николая Константиновича, не спрашивал ни о чем. Прежние друзья начали сторониться его. Только сейчас Никулин почувствовал, каково быть в шкуре предателя. Решаясь на этот шаг, он предполагал, что многие отойдут от него, но переносить презрение товарищей оказалось очень тяжело. Не скажешь же им, что идешь к немцам не служить, а вредить, бороться с проклятым фашизмом.
Раньше, бывало, Николая Константиновича охотно встречали в тесном кругу беседующих вполголоса. Сейчас он остался один. Узнав о том, что Никулин ходил к Плетневу, один из военнопленных в присутствии других офицеров, смерил его взглядом, полным презрения и гнева, и зло сказал:
— Эх ты, иуда!..
Хотелось броситься к товарищу, рассказать о том, что он не изменник, что он старается проникнуть в самое логово врага и там работать для своей Родины. Ведь он же чекист и обязан воспользоваться подвернувшейся возможностью. Для этой цели людей на парашютах перебрасывают за линию фронта! Но Николай Константинович хорошо знал, что в том опасном поединке с абвером, в который он вступал, даже выражением глаз нельзя было выдать себя. Фашисты должны быть безоговорочно уверены в нем. Иначе все пойдет прахом.
Дудин, как и уговорились, тоже полностью отошел от Никулина и даже поддерживал недоверие военнопленных к нему, не переходя границ, за которыми неприязнь перерастает в ненависть. Николай Константинович случайно услышал разговор Дудина с одним из военнопленных, за который в душе поблагодарил его.
— Как ты думаешь, Никулин в самом деле к гитлеровцам переметнулся? — спрашивал Дудина военнопленный.
— Не знаю. Ничего не знаю, — устало отвечал Дудин. — Только с какой бы целью он к фашистам ни шел, все равно видеть его не могу.
— Как бы то ни было, а пока он еще у нас в руках, — заметил военнопленный.
— Он у нас или мы у него, поди, угадай. Поживем, увидим…
Плетнев, конечно, не забыл своего разговора с Николаем Константиновичем. Выждав некоторое время, чтобы не выказать нетерпения, он вызвал его к себе.
— Я разговаривал о вас, Никулин, с кем следует. Думаю рекомендовать вас в абвер, военную разведку. Вы согласны?
— Конечно, господин капитан!
— Тогда собирайтесь, поедете в другой лагерь. Вас признали годным для службы в немецкой армии. Однако прежде чем стать солдатом фюрера, необходимо пройти проверку. Таков порядок.
В тот же день вместе с Плетневым Николай Константинович п еще несколько военнопленных, завербованных немецкой разведкой, выехали в Ригу.
Не впервые Никулин видел Ригу, но невольно залюбовался ею, проезжая по городу. Даже в суровую военную весну сорок третьего года Рига была прекрасна. Шелестели молодой листвой каштаны, зеленели газоны, тут и там пестрели цветы… Но полупустынные улицы напоминали о тяжелом военном времени. Глядя на них, Николай Константинович с тоской вспоминал довоенную Ригу.
— Что загрустил, Никулин, — окликнул Плетнев Николая Константиновича, заметив тень печали на его опаленном, обветренном лице. — Устал небось? Ничего, скоро в Задвинье приедем, там отдохнешь.
Никулин промолчал. Наигранный оптимизм Плетнева не мог обмануть его. Он достаточно насмотрелся, как обращаются гитлеровцы со своими прислужниками, и на человеческое отношение не рассчитывал.
Машина прогрохотала по понтонному мосту, свернула в узкий переулок, потом в другой и вскоре остановилась. Никулин прочел на ржавой табличке название улицы: Даугавгривас, 25. Тут размещался так называемый Гуцаловский лагерь, который абвер использовал как сортировочный пункт. Здесь завербованных агентов изучали, определяли их пригодность для той или иной специальности, отсюда направляли в разведшколы.
Николай Константинович выпрыгнул из машины, осмотрелся. В глубине небольшого двора стоял над крутым обрывом двухэтажный деревянный особняк с четырьмя деревянными же колоннами, поддерживающими балкон над входом. Когда-то дом был выкрашен в темно-бурый цвет, но теперь краска местами осыпалась, обнажив почерневшие трухлявые доски. Маленькие окошки были покрыты пылью. Рассмотреть, что делается внутри дома, не удавалось даже с близкого расстояния.