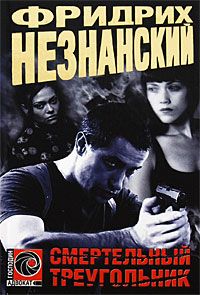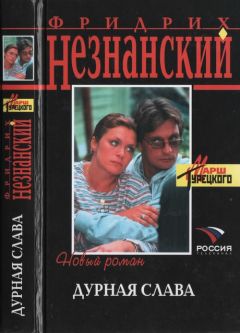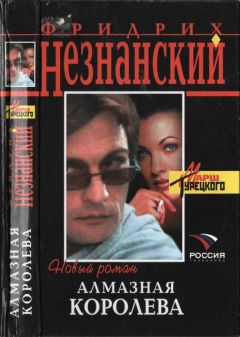Фридрих Незнанский - Продолжение следует, или Наказание неминуемо
— А он что, с «зелеными братьями» был связан? Или как там они у вас назывались тогда?
— Наверно. Но ты не сердишься?.. На меня. Что я не говорила.
— Слушай, маленькая моя, да какая теперь разница? У вас и сегодня полно тех, кто нас, ну, русских, ненавидит. Но лично у меня в Латвии врагов нет, зато есть много хороших друзей. И никто из нас никогда не тычет друг в друга пальцем. Мало ли что бывало в прошлом?
— Так, но ведь мы всегда хотели только свободы для своей страны, не больше.
— Ну, вот и добились, молодцы. А мы и не сильно, насколько я помню, возражали. А с твоим отцом, будь он сегодня живой, мы могли бы даже подружиться. Разве не так?
— Наверно… — как-то уклончиво ответила Эва и снова положила голову ему на грудь, под его мерно ласкающие ее волосы пальцы.
Ей это очень нравилось, даже легкая дрожь, чувствовал он, пробегала по ее обнаженной, атласно-белокожей спине. Невероятно томительное ощущение наплывающей волны желания. Но следующая произнесенная ею фраза была подобна препятствию искусственного свойства, о которое вдруг разбилась вкрадчиво подбиравшаяся волна.
— Тобой недавно очень интересовался плохо известный мне мужчина. Он мне напомнил, что хорошо знал моего отца. И я его, кажется, давно видела. У папы. Но забыла, как зовут, а он сказал: зови просто — Анатоль.
«Вот откуда ассоциации», — подумал Александр. А имя Анатоль ему решительно ни о чем не говорило.
— Но кто он все-таки? И что ему было надо конкретно от тебя?
— Не знаю, — задумчиво произнесла она. — Но он мне сразу не понравился. Навязчивый. Как это? Брезгливость… к мужчине, понимаешь?
— А почему, если не секрет? — он насторожился, и волна отвалила в сторону.
— Неприятный очень. Сказал, что видел нас… давно. Я поняла, в самом начале…
— Но что ему надо? Он старый?
— Не молодой. Не как ты. Но… сильный, а лицо очень старое. Он спрашивал, где тебя найти. Я еще не знала, не разговаривала с твоей Ириной. Сказала, давно не виделись. Я не хотела посвящать его в наши отношения. И потом, я вправду же не знала. А он сказал, что тебя в Генеральной прокуратуре нет, и где теперь работаешь, не говорят. И домашний твой адрес он не знает. А ему обязательно нужно.
— Хотел-то от тебя чего?
— Чтоб я узнала, где ты. И все про тебя. Он… очень настаивал, — как-то уклончиво пояснила Эва, не глядя Александру в глаза. — Немного угрожал, — добавила осторожно. — Я не виновата, я была вынуждена позвонить Ирине. Мы поговорили, я сказала ему, и он отвязался. — Эва брезгливо передернула матово-розовыми полными плечами. — А я сейчас подумала, зачем это нужно? И не знаю… Отвратительно… Я неправильно сделала?
— Откуда я-то знаю?.. Впрочем, не бери в голову. Если я ему нужен, найдет, тогда и спрошу… На всякий случай, опиши мне его, чтобы я смог узнать при встрече…
Турецкий говорил спокойно и убежденно, чтобы снять напряжение у Эвы. Она, кажется, искренне раскаивалась в том, что вынуждена была пойти на поводу у малознакомого ей человека, который ей не понравился. И ко всему прочему «очень настаивал». Эва не «расшифровала» своего выражения, но Турецкому стало понятно, что чья-то непонятная «настойчивость» вполне могла испугать женщину по-настоящему. А если тот тип знал еще и ее отца, который пострадал за свои деяния, да?.. То вообще возникает вопрос: с какой стати этот отвратительный хрен интересуется «важняком» из Генеральной прокуратуры России? Вроде в делах Турецкого, связанных с Латвией, в настоящее время не было никаких особых криминальных загадок. Нет, ну, случалось в прошлом, конечно, и преступников ловили, и в Россию экстрадировали, и обратно — по требованиям латышей.
Впрочем, серьезного повода для волнений Александр пока не видел. Но какая-то неясная тревога все-таки возникла. И Эва это тоже мгновенно почувствовала. И в ней немедленно проснулось такое безумное желание, которое должно было захлестнуть его сознание и решительно отодвинуть в сторону все, что не имело непосредственного отношения к тому, ради чего они нежились среди смятых простыней. Что в конечном счете и произошло. Потому что пришли они в себя тогда, когда за окном стояла глубокая ночь, подсвеченная уличными фонарями, да еще скользящими по потолку отблескам от фар пролетающих по проспекту редких в этот час автомобилей…
Утро принесло шаткое ощущение приятной опустошенности, с одной стороны, и, с другой — явственно сдобренного коньячным похмельем утомления. Значит, хорошо потрудились, так и старались ведь. А бутылки коньяка с шампанским, которые в магазине у гостиницы купил Турецкий, похоже, были успешно ликвидированы, как враждебный класс, наверняка ночью, в коротких паузах, когда Эва совсем уже в раж вошла… Впрочем, не только она. У Александра тоже было состояние, близкое к срыву с катушек. Ему казалось, что он нарочно, буквально на пределе своих физических возможностей, решил проверить себя сегодня ночью, насколько успешно проходит у него реабилитация после тяжелой контузии и множественных мелких ранений. Словом, где ж еще и проверяться-то? Точнее, на чем? Ну-у… на ком?..
И первое, что обнаружил Александр, продрав в буквальном смысле глаза, были мирно покоившиеся рядом с ним, почти под рукой, подобно двум мраморным полушариям, пышные и гладкие ягодицы цвета молочно-розового зефира. А левая полная коленка Эвы преспокойно устроилась на подушке, рядом с щекой Турецкого.
«Ничего себе! — подумал он. — Интересно бы узнать, когда мы закончили? Вернее, на чем остановились?..» Но рядом, кроме мертвецки спящей красавицы, естественно, никого не было, значит, и вопрос — в пустоту. Впрочем, пробилось некое воспоминание сквозь не рассеявшийся еще туман. Кажется, он, активно утверждая свой тезис на практике, убеждал Эву, что самое сладкое место для поцелуев помещается у нее под коленкой, сзади, прямо на ее голубых жилках. И она восторженно взвизгивала, как от невыносимой щекотки, и дрыгала ногой, пытаясь ею сжать его щеки… Ну, было, и что? Однако, почувствовав некоторую неловкость и стараясь сфокусировать зрение, уставился на свои ноги, где обнаружил льняную, распотрошенную копну Эвиной головы.
«Валет»… «бутерброд»… — возникали в голове легкомысленные наименования различных любовных поз, но мысли не задерживались. А вот откуда появилась неловкость, это он понял наконец, когда увидел, во что конкретно, вероятно еще с ночи, вцепилась своими требовательно острыми коготками вкрадчивых кошачьих лапок легкомысленная «девушка», да так, видно, и заснула — сил ей уже недостало. Еще она что-то изрекала по поводу перста судьбы, который ею руководит и диктует свои правила, коим она подчиняется категорически и всегда с огромным желанием. Это она формулировала свое эго. Или жизненное и творческое кредо, как угодно. А он, помнится, смеялся, потому что было действительно очень смешно.
Но мысль лениво текла дальше, и Александр подумал о том, что Эва — так уж вчера вышло — сама превратилась в перст его судьбы. Это же она отправила его чуть ли не силком на посадку в самолет. В результате самолет никуда не улетел, а сам Турецкий бросил все, сдал билет и явился сюда, в гостиницу, чтобы не упустить редкой возможности самому оторваться от души. Эве он верил и твердо — во всех смыслах — знал, что именно так оно и будет. Что и произошло. Но самолет-то все-таки не улетел, вот в чем смысл! И как это следовало называть, если не прямым указанием той же судьбы? Жестом ее перста? А если позже и улетел, то все равно оставил Александра Борисовича здесь, у обнаженного бедра, можно сказать, благородной гражданки Латвии.
Теперь еще… Он хотел уехать на вокзал под утро, чтобы ближайшим же поездом отправиться в Москву. И что? А ничего. Уже семь утра, а он — до сих пор в постели. Эва, открыв когда-нибудь глаза, и не подумает отпускать его на волю. Неутомимая «девушка» — невероятная сила, и она нынче тоже «отрывалась» так, будто была уверена, что это у нее в последний раз. Страшно, аж до обморока…
Тихо встать, одеться и уехать — это было бы сейчас самой низкой подлостью с его стороны. И такие вещи не прощают, на ее месте он бы ни за что, например, не простил. Бросить все и сбежать — это оскорбить, глубоко обидеть, а Александр Борисович изначально не мог взять и глубоко обидеть женщину. Не мог, и все… Что ж, логично, настоящие мужчины так гадко не поступают…
А время между тем медленно течет и утекает. Разбудить? Не исключено, что все начнется сначала. Не будить? Нельзя. И выход возник сам.
Александр Борисович тихо поднялся, чувствуя некоторое «легкомысленное» головокружение. Вынул из-под коленки Эвы подушку и аккуратно подсунул ей под голову, а затем, с сожалением глядя на роскошное тело, которое приходится оставлять, то есть, по сути, терять в силу причин, уже не зависящих от него, он заботливо укрыл спящую простыней и, одевшись, присел к столу, чтобы сочинить письмо.